Илл.: Лики. Павел Филонов. 1940 г.
Памяти друга.
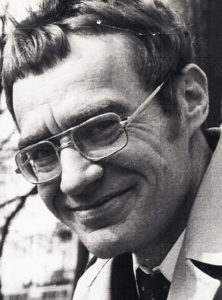
Имя Анатолия Яковлевича Куклина /Иоффе/ (1938-1994) пока не нашло себе достойного места в истории русской религиозной мысли, время отметило его труды печатью молчания еще при жизни. Незаурядный художественный талант ювелира, замечательные способности солиста университетского студенческого хора венчал острый эстетически заостренный ум, который после принятия крещения и погружения в христианскую литературу откликнулся новой глубиной. Увы, советская эпоха даже в 70-х и 80-х воспитывала у большинства упреждающую осторожность, поэтому на работы Анатолия Куклина «на всякий случай» коллеги предпочитали не окликаться. Не ругали, но и не хвалили. Причина была в его дружеских отношениях с опальным автором «Архипелага». История спасения А.Я.Куклиным пьесы А.И.Соженицына здесь:
В книге «Бодался телёнок с дубом» Александр Исаевич Солженицын [1) с. 412—413] счел необходимым с любовью и благодарностью упомянуть Анатолия Куклина, не забыл много лет заботиться о семье Куклина и после безвременной кончины Анатолия Яковлевича .
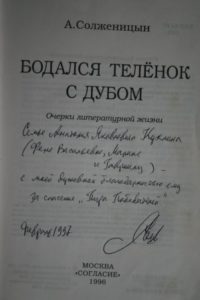
Задвинутый партийно-бюрократической машиной за эту дружбу в поднадзорное существование, Анатолий нашел отдушину в преподавании едва тогда разрешенной социологии искусства, изучении трудов православных авторов. Время нашей первой встречи в начале 80-х годов было омрачено тем, что он ожидал своего ареста, и как потом говорил мы, молодые со своим жизнелюбием и оптимизмом сильно ему поддержали одним только своим присутствием и интересом к тому, что он говорил. Круг общения он давно ограничил своим товарищем по историческому факультету ЛГУ Юрием Прохватиловым, художником Игорем Князевым, специалистом по творчеству Ф. М. Достоевского Верой Бирон, искусствоведами Василием Лецовичем, Яковом Иоскевичем, замечательными священниками Василием Ермаковым и Василием Лесняком да ещё немногими надёжными друзьями. По одному ему ведомым критериям он включил в этот список и меня.
Наша дружба с Анатолием Яковлевичем Куклиным складывалась очень постепенно, он не спешил необдуманно дарить своё доверие кому бы то ни было. Но в конце концов оно было мной получено, и это было отмечено невероятным для того времени жестом — мой друг вручил для прочтения переплетённый авторский машинописный экземпляр (третий или четвёртый) «Августа Четырнадцатого».
В последние годы Анатолий много писал на тему отношений христианства и культуры, настоящего и будущего России. Но и здесь вкралась своя заковыка: Интернета еще не было, число людей, способных оценить достоинства религиозно-философского текста было очень невелико, к тому же сказывалось территориальное рассеяние и момент, когда самиздат практически прекратился и публикации стали проникать по разным основаниям во всевозможные сборники, но достаточно хаотично. Так религиозно-философские статьи Куклина опять остались на обочине информационного интереса. Компетентный читатель оценит горение мысли и сердца автора, текст которого мы предлагаем. Написанный больше четверти века назад он не нуждается в скидках на время и вполне достоин пополнить библиотеку как профессионального исследователя, так и читателя только открывающего для себя мир русской религиозной философии.

Выражаю благодарность за любезное разрешение на публикацию текста моим друзьям — вдове Анатолия Яковлевича Марине Куклиной и его сыну Гавриилу Куклину.
1) Солженицын А. И. Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни. М.: Согласие, 1996.
Текст приводится с указанием страниц по сборнику: Горизонты культуры. Сборник научных трудов. Выпуск 1. Санкт-Петербург, Российский институт истории искусств, 1992 . С.264.
Владимир Шаронов.
(К ФИЛОСОФСКОМУ ПОРТРЕТУ Г.П. ФЕДОТОВА)
Сборник, который занят обозрением «горизонтов» культуры, невольно побуждает спросить: мыслимо заглянуть «за горизонт»? тем более что в наше время словно бы тектонических взломов и обвалов почвы культуры линия горизонта заколебалась, заволоклась густым мраком – и, как водится в такие «осевые» и непроглядные годины, там, где был горизонт, причудливая, дикая и почти всегда пошлая. Притом не только как симптом невменяемого состояния культуры, но как ее исчерпанность, как непостижимость и нечаянность исторического часа и судьбы.
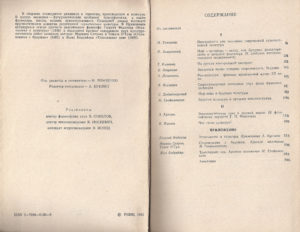
Для нас, так сказать советских людей, довольно добротно наученных угрюмой метафизикой материализма видеть и воспринимать сущность мира в категории явления, предметная действительность, «данная нам в ощущении» (еще и взвинченная до нервозной озабоченности), почти исчерпывает собой все содержание мира вообще. Что же удивляться тому, что из расщелин и разломов рухнувшей идеократической постройки, освободившей материю бытия от унижений материализма, стали бить мутные струи бульварной мистики и апокалиптики? Но другого пути к подлинной вере, иного выхода к свету, по- видимому, нет, как только через изживание в себе всей душевной хмари и невнятицы. И надо приготовиться к тому, что в ближайшем горизонте нашей культуры эти мутные потоки встревоженной стихии «низа» и «верха» будут капитальнейшим моментом социализации всего нового и даже всего здорового в жизни страны; слишком долго, слишком слаженно злобный бульдозер матерого идейного единства давил а пластал всякие порывы и побеги духовного самостояния. Удивляться скорее нужно тому, как сквозь провинциальные, ложные и ядовитые национальные подкормки внезапно пошла в рост и как бы воскресла к жизни сплошь вытоптанная корневая система прошлого. Впрочем, не будем спешить с оценками столь огромного и поистине загадочного явления, тем более что мы говорим об этом не в задоре горячего спора, а лишь в предварение публикации небольшой статьи «Эсхатология и культура», написанной еще в 1938 году, правда, как бы в историческом антракте между ужасами небывалого террора и кошмаром небывалой войны.
Ее автор Георгий Петрович Федотов (1886 — 1951) был христианским социалистом – словосочетание, близкое к оксюморону,
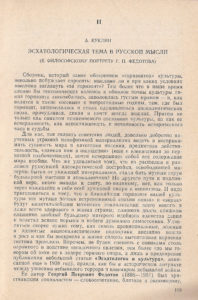
Стр. 120
так велика парализующая сила разнонаправленных целей земного социализма и неотмирного христианства. Добавим, что по университетскому образованию Г. П. Федотов был историк, а по итогам трудов — крупнейший агиограф, т. е. специалист, предметно осмысляющий природу и пути святости. Какое, однако, опасное схождение направлений ума и сердца в одной душе! Но именно в этом опаляющем круге противоречий испытывались и вырабатывались характер, сила и форма таланта Федотова. Впечатляют сразу и отвага, и блеск, и трезвость, и глубина. Удивишься этим граням, высматривая их в портрете не кого-нибудь христианского мыслителя! Отвага — не качество ли воина и бойца, презирающего рассудительную трезвость? А блеск — не признак ли поверхности, тщеславно избывающей кротость и косноязычие настоящей глубины? Но, видимо, coincidentia oppositorum воистину принадлежит к тайнодействиям богозданной харизмы; и если все противоречивые грани целого удержаны и примирены, можно говорить, что стихия таланта обрела совершенную и законченную форму. Таких дарований — легких, тонких, остронезависимых —в России вообще-то немного. Но кажется, что после А. Герцена и не ниже его стоит Г. Федотов.
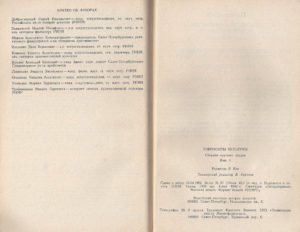
Имя Герцена здесь пришлось весьма кстати: есть повод сильно сократить путь к цели. Скажем так: Герцену было назначено судьбой сеять первые семена русского социализма, утренние побеги которого он собрал, сберег, пронес сквозь чугунную арматуру православия, самодержавия и народности. И лишь в минуты глубоких (впрочем, безблагодатных) страданий, среди приступов острой антимещанской брезгливости он неизношенным в журналистике сердцем догадывался и мечтал об иных «отечествах и далях»: Но цель жизни и вся жизнь были: разбудить, растормошить склеротическое общество, соблазнить «темную» и «дикую» страну социалистической перспективой, идеалами свободы, равенства, братства и т. п.
Отнюдь не злоупотребляя антитезисами, можно сказать, что перед Федотовым стояла задача прямо противоположная. Социализм из утопии на его глазах превратился в «науку», а из нее — в практику. Да какую! Нам еще не скоро дано будет церковно просветленным умом увидеть промыслительную руку Господа, попустившего на столь долгий срок, без сомнения, апокалиптический масштаб горя, мерзости и смерти на огромную страну, каковая, как казалось мудрецам Европы, входила в свой культурный расцвет, в возраст самобытной цивилизации. Еще раз скажем: видеть ясно пока мы не можем и не умеем. Но на тяжком пути к пониманию, без которого не будет нам ни духовного, ни физического здоровья, Федотов — очень нужный спутник, настоящий крестоноситель правды с первых. еще сумеречных дней черной беды…
Теперь, когда рассыпанное по множеству источников наследие Федотова собирается в некоторое единство, скажем не обинуясь и не колеблясь: по силе социологического зрения, по широте
Стр. 121
духовно-политической отзывчивости, проницательности гипотез и оценок мало было во всем мире таких, кто мог бы с ним сравниться. Так, можно сказать, впервые в христианской культуре было раскрыто публицистическое поприще оцерковленного сознания и так, хочется думать, оно и должно раскрываться в религии беспощадной правды, Бог которой отдает Свою плоть «за жизнь. мира». Но об этом много мы говорить не можем и лишь энергично присоединимся к свящ. Михаилу Аксенову Меерсону, сказавшему, что Федотов, «кажется, единственный русский историк- публицист, смотревший на историю через призму духовной культуры. <…> Потому его произведения — как бы кратки они ни были — вода живая» 1.
Для восприятия эсхатологической темы у Федотова имеют значение названные в начале его статьи имена В. С. Соловьева, Н. Ф. Федорова, Н. А. Бердяева и С. Н. Булгакова. Нельзя думать, что их упоминание — обычный библиографический жест профессионала. Федотов — это будет показано — знает трудности темы и как богослов, и как историк, и как философ, но жанр публицистики держит его мысль, так сказать, «на приколе» у злобы дня, в капризном ритме переменчивых событий. В этом вся трудность задачи, до него столь прямо, столь смело никем не решавшейся: держать вечные христианские ценности в непосредственной близости от этого трескучего смрада социальной повседневности, ее скучных соблазнов, пошлых неврозов и безумств, чтобы видеть, насколько и как еще возможно в атмосфере. духовной сырости и гнили высечь огонь надежды и веры. Здесь все крутые повороты и заносы темы должны быть проработаны и усвоены с той обеспеченностью свободой, которая сообщает торопливому и оглядчивому журнальному слову осанку наследственного благородства и силы… И мы правильно сделаем, если внимательнее всмотримся в эсхатологию названных Федотовым мыслителей, от которых он потомственно зависел и которых, самобытно продолжал.

Чтобы сделать это, по возможности, обстоятельнее, необходимо сказать, что учение о конце мира, о торжестве Царства Божьего, «когда времени уже не будет», является наиболее сокровенной тайной христианского богомыслия, закрытой для человеческого знания, можно сказать, неприступной стеной света триипостасного Божества Пресвятой Троицы. Но это не те неприступность и непостижимость, которые полагаются ныне доминирующей парадигмой о будущем, внедренной в культуру кантовским трансцендентализмом. Борясь с языческим религиозным иждивением и эксплуататорским отношением к Богу, Кант требовал такой полноты упования, которой исполнялась бы вся область человеческой модальности. Такой ценой достигалось, собственно говоря, христианское обоснование права: свобода воли, абсолютная ответственность личности, автаркия творчества, суверенность куль туры и т. п. … Но бытийная реальность непостижимо сущего
Стр. 122
непостижимо теряла живое Лицо, переставала быть категорическим смыслом добытой свободы и суверенности. Человек словно бы освобождал не бытие сущего от неправды, а себя от бытия сущего; и понятно, что формализм такой свободы должен был иметь «свой» телос, «свою» конечную сущность, каковой полагалась трансцендентность как гипотетическое бытие Бога, Бог как «предмет» представления. Разумеется, в царстве такого Бога торжествует окончательно и безусловно лишь одна безусловная сила — 3нание, власть и дух Науки. Можно сказать, что Наука и есть Бог в священной мечте гипотетической формы бытия. Но «наличная» данность этого бытия принципиально не ипостазируема, она обезличена изначально и предстает -как постоянная смена горизонтов будущего и прошедшего, вращающихся вокруг «оси» скептического опыта, в круге его экспериментального риска и предельных предвосхищений.
Кант, конечно, здесь ни при чем, и можно лишь догадываться, что такой модус бытия необходим для виртуального развития всего человеческого и всего, так сказать, слишком человеческого. Это значит, что свобода понимается только в категории времени, как момент становления, — словом, в понятии имманентизма. Ведь свобода делает своим содержанием личность только через целое личности, ее тотальную органическую природу, т. е. через имманентный опыт. Имманентизм живет под формой становления, и поскольку не связан с «другим» бытием — прошлым и не создает «другое» — будущее, он не имеет ни начала, ни конца. Еще точнее: поскольку он не имеет ни начала, ни конца, он не имеет смысла, и ницшеанская правда о вечных бегах природы заключается не в обновлении, а в возвращении, в невыносимом и потому героическом amor fati. Этот героизм есть предел и итог аскетической объективации трагической эсхатологии всех мировых религий, не столько спасающих смысл сущего, сколько избавляющихся от его фатальной бессмысленности.
Но героев и аскетов немного, и имманентизм спасается от бессмысленности жизни в «сильных версиях» гипотетического бытия: в утопиях науки, в иллюзиях искусства, в самом динамизме ритмов «вечного возвращения», в мечтах и фантазиях о варварской свежести, в эротической и спортивно-игровой энергетике тела и т. д. С другой стороны, мы уже хорошо знаем, что «слабой версией» этой неразмыкаемости гипотетического бытия, нерастворимым осадком его самодовольства все более категорично выступает пошлость — вездесущая и необходимая власть лжесоборного быта и лжесоборного слова в безбожно обезличенной повседневности.
Но у имманентизма при всем бесстрашии к духовной смерти есть жгучая боязнь телесного конца. Собственно, у черты смертной плоти лежит «дальняя» граница всего имманентного опыта; это его трансцендентность, непостижимый конец и предел, и потому эсхатология индивидуальной смерти определяет собой, с позволения сказать, грамматику и герменевтику всякого внутреннего
Стр. 123
опыта. Ничего нет, что было бы больше этого «конца», которым обрывается в бездну всякое становление, им, этим концом, и конституируются существо и смысл имманентизма. И даже если «не законнорожденным» постулатом «чистого» опыта допускается смысл бытия «самого по себе», его истина изъявляется «открытостью бытия», данной вместе с историчностью наличного бытия. Историчность выступает здесь в роли «последней метафизики», но поскольку эта историчность является функцией положения наличного бытия во времени и пространстве, постольку последний смысл полагается в качестве продукта предельного развоплощения этой наличности.
Мы не можем входить в анализ исторического происхождения такой «формы» сущего, но подчеркнем, что в религиозной установке на предельный смысловой горизонт «гипотетического бытия» христианской эсхатологии негде и незачем быть. Она лишается здесь своей творческой силы и исторического призвания, превращаясь в мифологический атрибут пошлого фатализма, так сказать, в реваншистский тыл несбывшихся притязаний и неудач мстительной истории. По этой причине эсхатология данного кругозора жизни теряет динамизм и вытесняется телеологией, футурологией, астрологией и тому подобными типами гнозиса, а вне своей гносеологической распределенности, в суете жизненного обихода элиминируется прихотями настроений оптимизма и пессимизма, этих имманентных «недоносков» подлинно религиозной надежды и веры.
Конечно, неумолимость смерти не дает никакому оптимизму настоящей и окончательной победы — в силу чего продуктом смутной религиозной взволнованности и нервозности имманентизма становится острое чувство самосохранения. И надо сказать, что, вместе с небывалым углублением антропологической проблематики имманентизм небывало актуализирует индивидуальную чуткость к «состоянию здоровья», ко всему этосу телесной жизни. «Состояние здоровья» выступает как «субстанция» наличного бытия, центральный корень его настроенности и заботы. Такой корень, правда, ломок и хрупок и не пробивается сквозь тлен и смерть, не пьет из источника вечной жизни, но это уже другой вопрос. Как щит страха, чуткость к «состоянию здоровья» есть творческий момент организации индивидуальной целостности в режиме бодрости и силы самой «воли к жизни» (а надо заметить, что даже Ницше, брезгливо назвавший философию Канта продуктом хорошего «пищеварения», в героику трагического amor fati не забыл включить хорошую пищу), и этот момент рано или поздно становится креативным для здоровой социальности. Здоровый организм и здоровая организация полагаются в опыте скептицизма когерентными величинами, своего рода соборной аскетикой культуры, отдающей себе критический отчет в агрессии греха и ненадежности духа. Правда, космический масштаб катастрофы грехопадения здесь почти исчерпывается зоологией эгоизма или физиологией бессознательного, но благодаря такой редукции
Стр. 124
впервые социализируется «минимум» благочестия и правопорядка в гипотетически христианизированной культуре.
Конечно, такая культура довольно жестко рационализирует свою секулярную свободу: здесь есть огромный риск стать жертвой («судьбой») своих собственных предпосылок (как с точки зрения status quo— силы формального права, так и в горизонте финально-телеологических представлений, повязанных сплошной причинно-следственной структурой техники). Но в этом риске обезличенного бытия есть направленное становление, благодаря которому «общее дело» теряет абстрактную безмерность, не максимализируется пылом и страстью идеологии, культом «общего», и соборная природа человечества — родовая, национальная, социальная — держит под контролем «оптимальной» меры спонтанную безответственность и бессознательную жестокость всякой коллективности. Известная духовная убогость и скудость такой культуры восполняется прагматической осмотрительностью и трезвой ориентированностью в поступательном развитии «системы» целого. Грубо говоря, на этой почве святые не рождаются, зато и стихиям демонизма под тусклым эсхатологическим небом сильно не разгуляться.
Повторяем, ни исторические цели, ни даже маргинальные следствия данной культурной формы не могут быть предметом окончательной оценки, ибо «до великой жатвы» все входит в Божье промышление о «воскресении жизни» и «воскресении осуждения» (Иоанн. 5, 29), и, по твердому слову Спасителя, суд будет праведен (см.: Там же. 5, 30) . Но нельзя не заметить, что свобода, исходящая из «чистого имманентизма», страдает принципиальным анабиозом этического отношения, в котором словно бы приостановлена кафолическая развернутость к миру, энергия причастия, собственно способность любви — главная сила религиозной целостности мира. В предельном бытийном напряжении такая свобода активна только энтелехией тела, эросом телесной недостаточности, и потому она — самое большее — откликается лишь на эстетический зов красоты. Это момент ее энтузиазма, ее «великий полдень», предел ее «жертвенной» отдачи и откровения. Эстетикой подъема и катарсиса имманентная свобода, так сказать, целиком и полностью «выкипает» из физиологии, изнемогает и кончается изнутри. Вот почему последним моментом ее развоплощения, ее «эсхатологией» являются вдохновение и экстаз.
Что и говорить, это немалая вещь, и в подтверждение мы приведем слова Ницше, который, характеризуя творческий экстаз, не забывает заносчиво-гордо добавить, что «надо вернуться на тысячелетия назад, чтобы найти кого-нибудь, кто вправе мне сказать: «это и мой опыт».
Вот эти прекрасные слова… «Слышишь без поисков; берешь, не спрашивая, кто здесь дает; как молния, вспыхивает мысль, с необходимостью, в форме, не допускающей колебаний, — у меня никогда не было выбора. Восторг, огромное напряжение которого разрешается порою в потоках слез, при котором шаги невольно
Стр. 125
становятся то бурными, то медленными; частичная невменяемость с предельно ясным сознанием бесчисленного множества тонких дрожаний до самых пальцев ног; глубина счастья, где самое болезненное и самое жестокое действует не как противоречие, но как нечто, вытекающее из поставленных условий, как необходимая окраска внутри такого избытка света; инстинкт ритмических от-ношений, охватывающий далекие пространства форм — продолжительность, потребность в далеко напряженном ритме, есть почти мера для силы вдохновения, своего рода возмещение за его давление и напряжение… Все происходит в высшей степени непроизвольно, но как бы в потоке чувства свободы, безусловности, силы, божественности…» 2.
Сверкающий фрагмент, не правда ли! (Хотя и не одиноким опытом брошенный на дороге истории: у нашего Мандельштама найдем краску не беднее!) Но чтобы дать хотя бы отдаленные представления о том, что подобная творческая инспирация — еще не благодать, не фаворская высота и что даже бешеная мощь гения Ницше — детская возня у подножия неизреченных тайн Святого Духа, приведем (с извинением за понятную кощунственность контаминации, хотя и не без пользы для дальнейших размышлений) бесхитростную запись беседы, которая проходила не в тысячелетней дали истории, а в 1837 году, т. е. в близком кон-тексте ницшеанского опыта. Беседу вел не философ и не ученый, а простой «болезный человек» Н. Мотовилов, исцеленный преп. старцем Серафимом Саровским от смертельного недуга и ставший его духовным послушником.
— «Каким же образом, спросил я батюшку о. Серафима, узнать мне, что я нахожусь в благодати Духа Святого? <…>
…И как мне самому в себе распознать Его истинное явление?» — Батюшка о. Серафим отвечал: «Я уже сказал, что это очень просто, и подробна рассказал Вам, как люди бывают в Духе Божием и как должно разуметь Его явление в нас; что же Вам еще нужно?»
— «Надобно, сказал я, чтобы я понял это хорошенько».
Тогда он взял меня весьма крепко за плечи и сказал мне: «Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божием с тобой; что же Вы глаза опустили, что же не смотрите на меня?» —Я отвечал: «Не могу смотреть, потому что из глаз Ваших молнии сыпятся. Лицо Ваше светлее солнца сделалось и у меня глаза ломит от боли».— Он отвечал: «Не устрашайтесь, Ваше Боголюбие, и Вы теперь также светлы стали», — и, преклонив ко мне голову свою, тихонько на ухо сказал мне: «Благодарите же Господа Бога за неизреченную к Вам милость Его! Вы видели, что я и не перекрестился, а только в сердце моем мысленно помолился Господу и сказал: «Господи, удостой его телесными глазами видеть то сошествие Духа Твоего Святого, которым Ты удостоиваешь рабов Своих, когда благоволишь являться им во свете великолепой славы Твоей»,— и вот Господь и исполнил мгновенно смиренную просьбу убогого Серафима. Как же нам не благодарить Его за этот неизреченный дар Его к нам обоим? Этак, батюшка, не всегда и великим пустынникам являл Господь милость свою, а уже это благодать Божия, как мать чадолюбивая, по предстательству Божией Матери, благоволила утешить милосердием своим сокрушаемое сердце Ваше.
— «Что же не смотрите мне в глаза. Смотрите просто и не убойтесь; Господь с нами!» — И когда я взглянул после этих слов в лицо его, то на меня напал еще больший благоговейный ужас. Представьте себе в середине солнца, в самой блистательной яркости полуденных лучей его, лицо человека, разговаривающего
Стр. 126
с Вами. Вы, например, видите движение уст и глаз его, изменение в самих очертаниях лица, чувствуете, что Вас кто-то держит рукой за плечи, но не видите не только рук его, но ни самих себя, ни его самого, а только один ослепительнейший, простирающийся на несколько сажень кругом, свет…
— «Что же чувствуете Вы теперь?» — спросил меня о. Серафим.— Я отвечал: «Необыкновенно хорошо».— «Да как же хорошо-то? — спросил он, — что же именно-то?» — Я отвечал: «Такую тишину и мир в душе моей, что никаким словом-то выразить Вам не могу».— «Это, Ваше Боголюбие, тот мир, — сказал о. Серафим, — про который Господь сказал ученикам: „Мир Мой даю вам, не яко же мир дает, Аз даю вам». <…> „Мир» этот, по слову Апостольскому, „всяк ум преимущий» и таким назвал Апостол этот мир душевный потому, что никаким словом нельзя выразить того благостояния душевного… <…>
Но как бы ни утешительна была радость эта, которую Вы чувствуете теперь в сердце своем, она все-таки ничтожна в сравнении с тою, про которую Давид сказал: „насыщуся, внегда явитимися славе Твоей» и про которую Сам Господь,. разъясняя устами своего Апостола, сказал, что „радости той ни око не виде, ни ухо не слыша, ни на сердце человека не взыдоша та благая, яже уготова Бог любящим Его».— Этой-то радости предзадатки даются нам теперь и если от них так сладко хорошо и весело в душах наших; то что сказать о той радости, которая уготована там на небесах плачущим здесь на земле? (…)
Состояние, в каковом мы оба с Вами теперь находимся, есть то, про которое сказал Господь: «суть неции от зде стоящих, иже не имут вкусити смерти„ дондеже видят Царствие Божие пришедшее в силе».— Вот, Ваше Боголюбие, какой неизреченной радости сподобил нас теперь Господь Бог и вот что значит быть в полноте Духа Святого, про которую Св. Макарий Великий Египетский пишет: „Я сам был в полноте Духа Св. и многих видел в разнообразных мерах Его». Этою-то полнотою Духа Своего Святого и нас убогих преисполнил теперь Господь» 3.
Этими потрясающими в своей явственной божественности словами раскрывается бездна, пролегающая между творческим озарением и Божественным откровением.
Конечно, и творческий восторг является мерой благодати, но эта мера потому и мера, что неизбежно остается внешней к своему сверхчувственному источнику, а значит — оставляет своего носителя, как и заметил. Ницше, «частично невменяемым», т. е. бессознательным и безличным. Какова бы ни была эта частичность, она стоит непроглядной стеной на пути к эсхатологической встрече с Богом. Ибо теофания, о которой говорит преп. Серафим, есть подлинный выход человека из истории, из наличности, из тьмы обезличенных имманентных порядков мира в нетварную природу Божественного света. И хотя этот свет открывается человеку во времени, он в полном смысле — не от мира сего. Вот она, непостижимая Тайна, делающая светом того, кому непостижимо и абсолютно реально открывается! Оставаясь тайной «будущего века», тайной «восьмого дня», Бог открывает Себя для личного общения именно как Бог Царства Небесного, как Эсхатон, и мы можем к этому лишь добавить слова другого святого — Симеона Богослова, который почти на тысячелетие отстоит во времени от преп. Серафима, но говорит теми же устами, что для тех, «которые соделались чадами света и сынами будущего дня и могут всегда как во дни ходить благообразно, для тех никогда не придет день Господень, потому что они всегда с ним и в нем находятся. Ибо день Господень явится не для тех, которые уже осияваются
Стр. 127
Божественным светом; но он внезапно откроется для тек, которые находятся во тьме страстей, живут в мире по-мирски и любят блага мира сего; для них явится он вдруг, внезапно, и покажется им страшным, как огнь нестерпимый и невыносимый» 4.
Все богатство гипотетического бытия, можно сказать, прирастает динамическим отношением к сущему как абстрактному обобщению вещей. Виртуально это выражает фактическое стремление человека своими силами воссоздать и воскресить природу. Религиозный смысл этого стремления очевиден, и, вообще говоря, не следует забывать великую мысль Аристотеля, что все имманентно незавершимое движется по кругу к своему началу, так что позднейшее по происхождению предстает первейшим по существу. В этом смысле гипотетическое бытие Бога есть хрипто-эсхатологическая «матрица» осуществления величия и мощи человека как Ноmo sapiens, т. е. человека, сущность которого есть coqitatio. В этой «матрице» сбывается и, видимо, сбудется центральная духовная интенция европейской культуры, ее, можно сказать, притязания, призвание и судьба.
Если в свете этой судьбы искать основную особенность «русского духа», она скажется — положительно или отрицательно, это смотря по «знамениям времени», — в более непосредственном восприятии бытия Бога. Действительность Бога в русской духовной парадигме дана не только сознанию, но и ощущению, и в этой центральной интуиции выявляется максимализм как православного культа, так и всей направленности культуры. В общем смысле эта особенность может быть понята как христоцентризм, ибо в человечности Христа человек усыновляется Богом. И надо сказать по возможности внятно и определенно: русская философская мысль, при всей ее засоренности чем угодно и приражениях к чему угодно, имеет одну устойчивую особенность: она христоцентрична несмотря ни на что, и в своей доминирующей интенции она не уходит от этого центра ни в онтологию, ни в гносеологию, ни в антропологию. Христос словно бы предчувствуется ею как величайшая духовная субстанция жизни, ее spiгitus геctor, — и мысль странным и удивительным образом как бы растет и ткется не по собственной воле автора, а как будто вопреки ей, по запросу времени, обусловленному нуждой и требованием кафолической жизни, налично полной и окончательной *. Думается, что это не традиция и не конвенция — все это в России легко преодолевается и рвется, — а скорее натура и характер, может быть —даже судьба.
__________
* Нужно ли говорить, что в коммунистическом призыве взять на себя абсолютную («ибо Бога — нет!») ответственность в деле формирования «нового человека» и сделать всю планету предметом всеобщего производственно-преобразовательного труда звучит хилиастическая ересь догмата Богочеловека. Как иначе, вне христианского начала, понять, что самая рационалистическая доктрина европейского ума стала «общим делом» самой нерационализированной в Европе культуры?
Стр. 128
Этим, вообще говоря, все сказано — остальное, что называется, лишь подробности: в Иисусе Христе Бог раз и навсегда раскрыл Себя всецело и полностью. Он и есть Эсхатон, и на Его исповедании утверждаются христианская вера, христианская церковь и христианский гнозис.
Можно сказать, что русская мысль любит и умеет мыслить эту огненную тайну, прежде всего, как эсхатологическую встречу Бога и человека. Ведь томление и тоска по абсолютно благой жизни, по сверхприродному блаженству противоречат всей имманентной природе и не имеют никаких предметных и фактических оснований в натуральных порядках бытия. Откуда и как эта духовная тоска «настигает» нас, кому нужна эта антропологическая открытость человека беспредельному, лишь усиливающая его страдания от бессмысленной принадлежности гибельному потоку времени? Все религии мира в меру мистического проникновения в эту тайну искали и находили эсхатологические основания для антроподицеи. Но Христос приходит не только как вестник Царства Божьего, но как «власть имеющий» (Мат. 7, 29), как носитель и начальник вечной жизни. И в делах и в словах Его тайна Царства раскрывается с такой ошеломляющей полнотой истины, что по самым глубоким меркам исторического опыта и мудрости она предстает настоящим безумием. Это безумие, «превозмогающее ум», есть безумие имманентных и натуральных порядков мира перед Лицом Того, Кто воочию показывает, что Он Основоположник космоса, времени и истерии.
Нужно увидеть кенозис Бога, Его умаление в Иисусе как явление не просто небывалое, но абсолютно новое, как самую Новизну — предельное личное откровение Бога, несносимое для человека, но и неизгладимое для него. Именно человеческий образ Бога становится настоящим потрясением природного человека, откровением его собственного образа в форме абсолютного содержания объективной, хотя и таинственной духовной мощи. Открывая в человеке эту максимальность, приобщая ее к Своему телу, Христос утверждает новый союз Бога с человеком, Свою Церковь, которой созидается в Духе Святом «новая Земля». С Воскресением Христа уже наступило Царство Божье для тела Христова — для воцерковленного человечества, и весь мир по отношению к этому событию сразу и решительно устарел и обветшал. Отныне каждый христианин и все христианское в мире поставлены и должны стоять в трагической и радостной принадлежности одновременно двум мирам: миру, образ которого уже прошел и проходит, и миру, образ которого уже пришел, но по бытийной силе греха дан «как бы сквозь тусклое стекло». Именно об этом говорит Христос словами: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю Вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Иоанн. 14, 27) .
Понятно, что сквозь тусклое стекло тускло и видится. И все же очищенному благодатным светом сердцу окончательная тайна уже вручена и присутствует в таинствах культа как начало
Стр. 129
конца, как эсхатологическая реальность тайны «восьмого дня», ключи от которой у Бога. Но в той мере, в какой история культуры и цивилизации воспринята этой реальностью, вошла в евхаристическое тело церковной седмицы, в план Богочеловеческого Домостроительства, обретают свой смысл и оправдание все дела человеческие и весь так называемый человеческий прогресс. Ибо всякий раз, как человек благодатью Божьей снимает в своем бытии внутреннюю грань между собой, Богом и миром, он рождается вновь для целостной жизни, воссоздать которую и хочет Бог сознательным усилием человека. И вся тварь, по слову Апостола, «совокупно стенает и мучится» и «с надеждой ожидает откровения сынов Божьих» (Рим. 8, 22 и 19). Отныне ничто не может разлучить Бога с человеком, кроме самого человека. Он вознесен над природным Законом, вынесен из плена смерти и тления, в подлинном смысле — спасен, и нет никакой силы в мире, способной отменить это событие и повернуть историю вспять. Самое время, таким образом, освобождается от плена вечного возвращения, от фатализма и резко меняет свою природу, впервые разделяясь в себе на прошлое, настоящее н будущее. И вся христианская жизнь становится ожиданием полноты обожения, второго Пришествия, грядущей Парусин, знаменующей торжество Эсхатона, когда времени уже не будет и будут Новое Небо и Новая Земля.
Между кенозисом и Парусией, первым Богоявлением в предельном уничижении и вторым пришествием в полной славе — свободное пространство для событий, собственно история как риск Бога о своем творении. И потрясающая сила Боговоплощения заключается в том, что, ничего не меняя в составе природного бытия, не нарушая его натурализованных порядков, это Событие вместе с тем меняет абсолютно все — в чем и сбывается именно Божественный характер риска христианской истории. Все в ней на грани райской и адской бездны и вместе с тем все идет своим чередом. Она является свободным творчеством человека и одновременно детерминирована продуктами его деятельности, его собственной «судьбой». Она перестала быть цикличной и развернулась как поступательный процесс, но не стала бесконечным прогрессом; в ней все виртуально развивается и растет и вместе с тем все чревато катастрофой; чем отважнее она устремляется в бесконечность, тем серьезнее чувствует конец. Этот конец неумолимо грядет, и вместе с тем он уже наступил, он вошел огненной молнией Воскресения Христа и стал всем своим мистическим содержанием вытеснять историю из ее имманентных ритмов и порядков через укрепление и рост таинственного тела церковного человечества…
Конечно, с того огненного момента, как Слово стало Плотью, человеческое бытие воистину предстало «грамматикой» Божественного откровения и «герменевтикой» Царства Божия, т. е. эсхатологией в настоящем смысле. Но человек получает доступ к постижению, конечных вещей и сроков не как мудрец и философ,
Стр. 130
а как личность, «облаченная» во Христа и лицетворимая Им. В этом основная особенность православного гнозиса, не мыслимого без аскетического преображения субъекта. Но в этом же, как представляется, и особенность постижения эсхатологии в русской мысли и в русской жизни.
Скажем сразу: там, где мысль онтически живет Христом, Им познает и самого Бога, и космос, и человеческую историю, она мыслит неизбежно в тонах близости Божьего дыхания, в чувстве и предчувствии причастия и призвания. В этом ее религиозный пафос и эсхатологическая взволнованность, но в этом же и опасность жгучего нетерпения и нетерпимости, категоричность и горячность духа, рискованный взгляд на историю как на лоно керигмы, арену конкретно-политической миссии Христа, вообще — искушение свести все богословие к христологии с неизбежной переоценкой Богочеловечности исторического процесса.
Ничто лучше не обрисует основной контур русской жизни, чем образ двух разбойников справа и слева от Христа.
Поистине, близость к распинаемому за наши грехи Богу невыносима и нестерпима. В близости от Его смерти нельзя не быть разбойником, притом либо благоразумным, либо безумным. Третьего не дано: срединное состояние «внутреннего человека» горит и выгорает болью и криком. Третьего не может быть, и для всякой человеческой «имманенции» это — настоящий апокалипсис. Как будет она в последнем огне воплями боли и стыда обнажаться при снятии «печатей» с таинств Царства, так и здесь, в земном обнажении памяти о Христе, «внутренний человек» слышит этот приказ: «иди и смотри» (Отк. 6, 7)… «…И всякий раб и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор. И говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца» (Там же. 6, 15 и 16).
Еще раз: здесь «выбор» может быть только жертвой памяти, ценой личности, и потому всякая тварная свобода стоит в безумии религиозного обнажения воли. Либо покаянное: «. . .помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» (Лук. 23, 42), либо злорадное: «. . .если Ты Христос, спаси Себя и нас» (Там же. 23, 39).
Напряжение этого выбора находится, можно сказать, в динамитной зависимости от духовной проясненности полюсов Причастия и отвержения. Но в любом случае жизнь как «гипотетическое бывание» здесь отступает и испаряется перед категоричностью сущего, и даже если эта категоричность ослабела в напряжении и изнемогла, она как «фон» душевной жизни не дает срединной моральной правде (оплодотворяющей гуманизм даже в богоотступничестве) стать твердой почвой созидания своего права, быть, что называется, культурой жизни. Память о Христе больше культуры и больше истории, она спешит все охватить раз и навсегда, понять всю тайну сущего разом, и эти ее бытийные максимальность и обнаженность с трудом структурируются и объективируются. Вот эту бытийную обнаженность в переливах
Стр. 131
ее свойств — отзывчивости, совестливости, исповедальности, выносливости в боли и страдании и т. п. — многие русские и нерусские люди умели усмотреть в народном этосе и национальной психее. Но были и такие (среди них один из самых зорких — как раз Г. Федотов), кто видел эту обнаженность и «всемирную отзывчивость» как источник и рассадник душевной несобранности и разбросанности, мечтательной беспочвенности, идейной податливости и вялости — свойств, дающих простор для непостоянства, неверности и измены.
Самый тип веры как будто распинается и двоится: то совлекая сверхчувственную реальность Святой Троицы в кенотически нисходящий мир чувственной материи, в безличное хтоническое болото природных стихий (Толстой как небывалый гений кенотизма), то зажигаясь эсхатологическим пламенем обновления, радикального протеста против стоячих вод жизни, исполняясь жаждой жертвы и немедленной огневой смерти. В любом случае, скептицизм мало свойствен русской душе. Ее огромная сила и выносливость словно бы не имеют точек опоры; нет терпения в труде, в созидании будущего. Упования веры легко отлетают в мечту и фантазию, а трудовые и строительные запросы и планы быстро перегорают жертвенным почином и пылом. Нейтральная среда быта, постоянно завихряющая суету житейских бурь в пошлость, здесь опустошается огромным разреженным пространством скуки, дури и хмари. Суета и пошлость не исчезают, а как будто сгущаются и сатанеют в жажде собственного «эсхатологического» конца и блаженства. Мы имеем здесь дело, так сказать, с репрезентативной формой наркотической свободы, празднующей свой пьяный экстаз и восторг уже на голом физиологическом субстрате эйфории. Где есть выносливость и энтузиазм, но нет терпения и трезвости— все идет прахом и даже плоды и удачи созидания и воспитания опережаются пафосом разрушения и перестройки. Не потому ли это так часто бывает, что бесы густо селятся как раз в местах, близких Христовой святости: где есть сильное нравственное сцепление, отзывчивость и совестливость, там притаились зависть и злоба и ждут разбойного часа, чтобы в приступе хулы и вандализма, так сказать, возгласить аминь топору и дубине. Во всяком случае, «категоричность» русской жизни как будто нарочно существует для того, чтобы любое большое дело и большое слово закончилось вывихом и переломом жизни. И это чувствуется, прежде всего, в эсхатологической теме.
Можно уверенно сказать, что в последние два века европейской философии русское эсхатологическое слово было наиболее творческим. Отчасти это связано с тем, что с повышением роли человека в интерпретации Богочеловеческого процесса резко падало метафизическое давление, которое испытывала тема «конца» истории со стороны судебной эсхатологии, со стороны апокалиптики. Раскованная и освобожденная от карательной и мстительной парадигмы эсхатология оборачивалась во многом сложной
Стр. 132
апоретикой и проблемой, разрешение которых зависело от того, как понималось призвание человека, задание истории, судьба космоса, наконец, самая Парусия — ее смысл, срок и предопределение.
Крупнейший философ идеи Богочеловечества В. С. Соловьев (1853—1900) разрабатывал эсхатологическую тему в категории теократии — благодатного накопления полноты христианской власти на Земле и грядущего Вселенского единства Церквей.
Вопрос о харизме власти со времени Хомякова и славянофилов был — и остается по сей день! — мучительной проблемой православия. Вопрос может быть сведен к следующему: кто является подлинным субъектом власти в историческом бытии, отвечающем эсхатологическому обетованию Царства Божьего? У В. Соловьева таких субъектов три: это Пророк, имеющий «власть» над будущим, Священник — хранитель сокровищ прошлого, и Царь, который в союзе с христианским народом полагает силу и крепость настоящего. Таким образом, в пребывающем единстве прошедшего, настоящего и будущего осуществляется христианская любовь, а в их различенности живет свобода. Окончательное Всеединство есть эволюционный переход полноты тройственной власти пророка и первосвященника к теократическим началам сверхнародного единства.
В. Соловьев с беспримерным артистизмом мысли привлек и обработал, кажется, весь мировой материал, чтобы вернуть христианскому храму облик вселенского Дома Истины. Это была грандиозная постройка, быть может, самая красивая и стройная из всего, что созидалось на этой почве, — и то, что эта постройка рухнула, видимо, свидетельствует об эсхатологической исчерпанности исторического типа веры, уповающей (со времени эллинистических исповеданий) на логическую связь Истории и Парусин.
Вообще говоря, вся европейская мысль XIX века мало эсхатологична и является живым выражением соблазна идеей эволюции и прогресса. Гегель, Шеллинг, Дарвин, Конт, Маркс, Вебер, натуральная теология — словом, все глубокое и все ценное, что было в культуре, представляло собой как бы эквифинальные моменты одного и того же «конца» — тотального утопизма сознания, благодаря которому всей эпохе удавалось жить и не слышать подземный гул катастрофы, не знать и не ждать ее. Конечно, были и нервозность, и «негодующие взоры», и «беспокойные воздыхания» и т. п., но все это было не чем иным, как иннервацией недостающей полноты жизни и своего рода эсхатологией гегельянства, веры в разумность действительности. . . Одинокий голос Достоевского, пророческими интуициями приоткрывший темные бездны свободы и нетерпения, был понят слишком психологически. Эсхатология бездны вытеснялась и заглушалась имманентным напором всех культурных сил, шумом «древа жизни», органическим мироощущением, имевшим, как казалось, все шансы — эволюционно или революционно, все равно! — «из себя» дорасти (допрыгнуть, наконец!) до идеальной цели, до совершенства и
Стр. 133
стать Всем. Нет настоящего понимания космической бездны Зла, которое вот-вот — о, если бы это увидеть апокалиптически! — обернется двумя мировыми войнами, морем крови и детских слез, настоящим поруганием образа человека. Нет этого ви́дения, и потому трагическая «музыка» свободы заглушается автоматическим ритмом «исторической закономерности», гипотетическими токами телеологии и прогресса, на которые и возлагается личное задание человека. Жертвенное и творческое терпение во Христе как единственная живая сила эсхатологии «снизу» разлагается словно бы на корню и становится болезненным дуализмом: с одной стороны, покорностью перед «объективной» реальностью и буквально поклонением науке, а с другой — необузданной самоуверенностью в мечтаниях и готовностью к «штурму любого неба». Происходит незаконное перераспределение онтических порядков свободы, которое в своих итогах подменяет подвиг веры и молитвы познанием так называемой необходимости. И чем меньше веры и молитвы, тем глубже и сильнее эта необходимость, тем она «онтологичнее».
У В. Соловьева эволюционный оптимизм вписан в могучую идею Всеединства, и есть своя правда в его проекте теократии, правда не текста, а контекста.
Соловьев был последний великий философ христианского просвещения и остро чувствовал дух культурного вандализма, революционно носившийся над гребнями социалистических и консервативно-националистических волн. Эту красную и черную опасность он хотел остановить незыблемой властью тех ценностей, которые принадлежат к более глубоким слоям сущего, нежели социальный и национальный мессианизм. Но априоризм идеи Всеединства был тяжелым бременем для этой задачи, особенно тяжелым для оправдания власти. Ведь природа всеединства постулировала компромисс Кесаря и Бога, в то время как Основоположник духовной власти разделил эту власть раз и навсегда. На зыбкой почве компромисса решать вопрос приходилось с помощью искусственных институциональных конструкций типа утопического союза русского Царя и римского Папы. Увы, нелепая и даже смешная затея!
В самой природе власти гнездится демон расширения и окрыления себя ценой (и жертвой!) другого — гордыня самоутверждения, не смирившееся с Божьим миром и Божьей мерой воли к господству и владычеству, одержимость властью. Строго говоря, теократическая доктрина Царства Божьего противоположна эсхатологии. В Царстве Божьем нет власти, нет идолов и авторитетов и единственной формой «господства» является свободная любовь — пленительная «власть» благодати Божьей. Но поскольку эта благодать имеет во Христе человеческий удел, она сообщает и земной власти двуцентричную, харизматическую и демоническую ипостаси. Говоря иначе, граница разделения власти Кесаря и Бога предстает как подвижная сфера творческой воли, отбора п освящения целостной природы власти, т. е. культа, закона и
Стр.134
авторитета вместе с их имманентными коррелятами — послушанием, уважением и любовью». Вот почему любая институализация власти оборачивается жгучим искушением и соблазном, областью вероломства и коварства, подлинно бесовской диалектикой одержимости и насилия. В этом смысле непогрешимый авторитет папизма в католичестве, либерализм протестантизма и духовный монархизм в православном опыте являются моментами исторической недоношенности соборной любви во Христе, т. е. формами политического рабства — соответственно перед самодержавием принципа, самодержавием плебисцита и самодержавием кумира и вождя…
Соловьев был поистине непревзойденным системократом и даже Христа видел только как носителя Логоса. Поэтому теократия Соловьева не доходит до конкретной истории, до трагедии времени и личности (характерно невнимание к главному в творчестве своего друга Достоевского). И прав Бердяев, говоря, что «у Вл. Соловьева богочеловеческий процесс бестрагичен, между тем как он трагичен»’5. Проблема «тварной свободы», ее эсхатологической судьбы не продумана до конца, и весь проект в завершающих линиях, хромая на обе ноги, впадает в магию и оккультизм — эти «ортопедические» приставки недоношенной эсхатологии. (Уже в знаменитом трактате «Смысл любви» В. Соловьев с головокружительной смелостью исследует идею оккультной эксплуатации пафоса половой любви в целях посюстороннего бессмертия!)
Катастрофа не замедлила сказаться и коснулась всей вдохновенно продуманной умственной постройки. Рухнуло не здание — скорее, провалился фундамент, та многовековая почва гуманизма и прогрессизма, которая исподволь была уже сплошь отравлена горючими газами надвигающихся катастроф.
Это было настоящее сокрушение духа, пережитое Соловьевым не критически, а панически. Из-под обломков теократических развалин во весь рост встала фигура антихриста в псевдоапокалиптическом гриме тонкого лицедея и утописта, мастерски овладевшего «бисерными играми» культуры и свободы и даже проникшего в святая святых Храма.
В одной из статей о Соловьеве Г. Федотов тонко подметил, что «роковым последствием подобной установки, когда она приобретает власть над духом, особенно в эсхатологически напряженную эпоху, как наша, является подозрительность к добру» 6. Не то беда, что люди идут ко Христу путем мытаря и разбойника, а то, что, шарахаясь от антихриста, попадают в объятия дьявола, т. е. «утверждают грех во Христе.. .» И тогда «мистицизм без любви вырождается в магию, аскетизм — в жестокосердие, само христианство в языческую религию мистерий» 7.
Хотя эта темная тень легла лишь «по краям» пошатнувшегося церковного сознания Соловьева, но мятежный профиль «Святого, не верующего в Бога» и совсем уже страшный призрак сатаны как «ревнителя церкви» вдохнули в предсмертную смятенность
Стр. 135
великого мыслителя настоящий ужас, а может быть, и позвали смерть. Во всяком случае, есть в календарном совпадении смерти Соловьева и Ницше почти в один день в августе 1900 года как будто вещий ассонанс рокового излома двуликой и двусмысленной вершины гуманистического духа, задохнувшегося на эсхатологической высоте.
Здесь будет уместно сказать, что перед тем как христианский гуманизм опустился в самые низины демонических инспираций и испытаний, он загорелся таким ярким костром, какой едва ли мог уже ожидаться на рубеже XX века. Мы имеем в виду вдохновенную идею, скорее даже проповедь, с которой обратился к миру Н. Ф. Федоров (хотя в контексте темы следует говорить не о пламени, а о пепле).
Н. Ф. Федоров (1829—1903) поистине с визионерской силой видел всю историю человечества под знаком нарастающего восстания сынов на отцов. Эту роковую поступь входящей в мир свободы (кровавый след которой фрейдизм вскоре впишет в парадигму «науки») Федоров воспринял с исключительной духовной глубиной. Его центральная интуиция — это память и плач обо всех умерших на Земле и оглушительная, словно бы скованная судорогой ужаса ненависть и неприятие смерти. В этой невосприимчивости к глубине и правде смерти сказалась сила самой «ереси жизни», тех «глубин сатанинских» (Отк. 2, 24), вне которых нет никакого подхода к пониманию масштаба катастрофы грехопадения человека и эсхатологической тайны воскресения и спасения.
Как в таких случаях бывает, недостаток эсхатологического зрения начинает восполняться утопическими видениями гуманизма, «ересями ума», в данном случае — идеей «предустановленной гармонии» и верой в самодостаточную силу труда и науки. В сущности, здесь эсхатологически освящается материя природы, и как материалист Федоров верит в возможность абсолютной сублимации сексуальной энергии в энергию «имманентного воскрешения». Эта-то вера и преформирует христианскую эсхатологию в хилиастический горизонт союза труда и науки в «общем деле» борьбы за воскрешение отцов. Так пророческое обетование и непреложность Божьего Слова библейской и христианской апокалиптики прелагаются в некую «педагогику» Бога, Его предупреждающий жест. А это значит, что Воскресение Христа — не огненное прободение самого времени и космического тела, а лишь призыв и почин в подвиге воскрешающего труда.
Планетарный проект «патрофикации», по Федорову, есть «Божье веление и человеческое исполнение», поэтому «зритель безмерного пространства… должен сделаться их обитателем и правителем» 8. Соблазн этого грандиозного проекта состоит в том, что церковная ортодоксия целиком становится ортопраксией и традиционному созерцательному христианству противопоставлена тотально-трудовая активность. Однако такая ортопраксия понята
Стр. 136
столь радикально, что в проекте «имманентного воскрешения» не остается ни грана «пространства» для благодати, таинств, для духовного делания, исканий и молитвы. Можно даже сказать без лишней эмфазы: в пафосе борьбы за абсолютную власть своего дела Федоров заменяет теократию Соловьева настоящей танатократией — диктатурой погоста, и вся она, исподволь пропитанная, так сказать, запахами сурового и смрадного тоталитаризма, лишь тем не ужасает, что слишком в целом фантастична. Религия Фаворского света с этим проектом, во всяком случае, никак не вяжется.
По общегуманистическим основаниям проповедь Федорова должна быть воспринята в ряду крупнейших утопий XX века как псевдоэсхатологическое завершение проектов Сен-Симона, Фурье, Конта. Но оставаясь на почве христианской церкви, религиозный активизм Федорова, по справедливому приговору о. Г. Флоровского, «впадает в исключительность самого крайнего оптимического пелагианства»9. Можно и впрямь согласиться, что «ничего не изменится, если умолчать о Боге» 10.
Но именно дух православия наделил Федорова вдохновением и энтузиазмом такой религиозной высоты, на которую никогда не поднималась человеческая мысль. Можно сказать, что этика Федорова поглотила эсхатологию и стала ею по призванию человечества на дело «общей жертвы», полностью и окончательно искупающее «грех имманентизма». И это — едва ли не главный русский подвиг и одновременно — главный русский соблазн. Недаром Н. Федоров внушал неодолимо двойственное чувство сразу и острого неприятия, и словно бы парализующего благоговения самым разным русским людям — Достоевскому, Соловьеву, Толстому, Циолковскому, Бердяеву, Флоренскому и др. Г. Федотов не был исключением.
Синтез беспощадного реализма и дерзновенной мечтательности, отлитый в форму абсолютного нравственного свершения, — это едва ли не архетип русского сознания, его, так сказать, подсознательный «И». В отношениях между реальностью и идеальностью «русский дух», видимо, усматривает больше сходства, нежели различия. Может быть, поэтому огромная чувствительность и категоричность вовлечения почти фатально сближают полюса сущего и должного, полагая в качестве «конвергенции» некое псевдобуддийское бытие — реальность, которая легко теряет статус «действительности» и превращается в «чистую форму», позволяющую манипулировать собой по любому смысловому заданию и проекту. При этом дематериализуется именно реальность, она превращается в символ, в некий «единый идеологический текст», а моральная сторона задания — зов и боль совести — начинает деспотически попирать субъекта и переживается как сакральная необходимость. Не то странно, что в одном и том же сознании легко уживаются безразличие и беспокойство, героизм и уголовная низость, сонливость и встревоженность души, а то, что вся эта неопределенность и недооформленность направлена на становление
Стр. 137
беспредметной действительности и, намагничиваясь от нее, приходит к эсхатологическому краю и срыву.
В отношении Федорова удивительно вот что: с той поистине Голгофской высоты сострадания, на которую взошел этот аскет, ему открылось новое понимание сущего как эсхатологической реальности Отца и Сына, реальности жертвенного духа любви, послушания, свободного служения, той реальности, которая проваливалась и оскудевала недостатком Святого Духа в имманентных порядках природы. Бог есть любовь между Отцом и Сыном, а значит, Он есть Бог истории, человека, Бог сострадания и той жизни, в которой свобода обоснована любовью не только сущностно, христологически, но и функционально, антропологически. Удивительное открытие, больше коперниковского переворота, подлинное обновление Иоаннова Евангелия, заболоченного двухтысячелетней философской гнозой о Творце и твари! И как ни дико говорить, но это открытие осталось незамеченным именно по особенностям «русского духа», взволнованного не самой этой эсхатологической реальностью, а ее немедленной священно-исторической и утопической «верификацией». На этих путях обновленная гением Федорова тайна Царства Божьего, нуждающаяся лишь в том, чтобы ипостазировать земную любовь, быть концом (судом!) имманентной ограниченности и, как говорили православные отцы церкви, сиять и «радостотворить жизнь», эта тайна неизбежно совлекалась в ересь хилиазма, и на этом нравственном плацдарме разворачивала эволюционную парадигму терпеливых и осмотрительных задач и заданий любви в революционный проект борьбы за «общее дело», властно обещающий скорую и окончательную победу. Вот и заряжен «русский дух» новым напряжением полюсов, чтобы со всей застоявшейся силой налечь на очередной «эсхатологический» горизонт… и провалиться в историческую пустоту.
Н. А. Бердяев (1874—1948) в этом отношении есть колоритнейший тип русского мыслителя. Нужно сразу сказать, что динамизм бердяевской мысли, ее беспримерный синтезирующий темперамент исключают, конечно, всякое псевдобуддийское позевывание, но огромная потребность в энтузиазме и в экстазе идет рядом (это не раз автобиографически подчеркивал сам философ 11) с «демоном трезвости», с острым, докетически брезгливым отвращением к действительности. Это «отвращение» и определяет действительность как «чистую форму» творческого воображения и революционного преодоления.
Действительность есть «неутоленная тоска», временность и смертоносность.., и такая онтология — не исток и не исход мысли, не принцип и не метод, а a priori личности, точнее — сам метафизический тип личности, полагающей абсолютно сущее как свободу и только свободу, безначальную и вездесущую, свободу «прежде» Бога, «глубже» и «больше» Бога. Понятно, что такая
Стр. 138
личность ищет свою персональную эсхатологию и хочет ее обосновать.
В этом смысле весь мир объектов у Бердяева вообще не является последней онтологической реальностью, но лишь состоянием Духа, отчужденного от себя и в меру отчуждения объективированного физической, магической, оккультной и всякой иной необходимостью. Дух же есть несотворенная свобода, таинственно имманентная человеку. Вот почему Бог открывает себя и в Сыне, и в Духе, и в пророках, и в творческом подъеме личности. Он ждет своего откровения в человеке, и у человека только один ресурс теофании — через творческое потрясение и экстаз. В элементе экстаза эсхатология есть не только перспектива неопределенного конца мира, но горизонт каждого мгновения жизни. «В каждое мгновение жизни нужно кончать старый мир, начинать новый мир. В этом дыхание Духа» 12.
Собственно, этот подход является революционным преодолением эволюционизма, утверждающим в завершающих линиях эсхатологию как радикально открытую антропологию. Здесь главная федоровская идея является настоящей находкой, и Бердяев подчеркивает: «Гениально у Н. Федорова то, что он, может быть, первый сделал опыт активного понимания Апокалипсиса и признал, что конец мира зависит и от активности человека. Апокалиптические пророчества условны, а не фатальны, и человечество, вступив на путь христианского „общего дела», может избежать разрушения мира, страшного суда и вечного осуждения» 13.
Эта мысль близка, как мы увидим, и Г. Федотову, а у Бердяева она получает предельно экзистенциальную интерпретацию. Он понимает: ложь ортодоксальной эсхатологии именно в том, что в ней объективация ада ставит под знак апокалиптического террора всю духовную жизнь личности и, прежде всего, свободу. С этим смириться нельзя, но и пересматривать традиционную эсхатологию тоже опасно. Ведь тогда нужно пересмотреть и «статус» Бога, и все теодицеи. И действительно, у Бердяева Бог не столько Бог обетования и спасения, сколько Творец, притом соработник креативной свободы, и именно этой креативностью Он спасает мир от гибельного потока объективации. Великое открытие Федорова обедняется на целый порядок, зато эсхатологическая реальность в диалектике категорий Творца и твари, господства и рабства на два порядка поднимает остроту исторической проблематики.
Можно сказать, что эсхатологизм Бердяева актуализирован подменой действительности чистой возможностью, за счет которой угасает и отменяется становление и резко обостряется проблематика трансцендирования. Спасение творчеством в этом смысле понимается не в порядке созидания культуры, а как искупление и преодоление подавленности грехом и злом, в порядке, так сказать, энтелехии свободы.
Об этом у Бердяева много сильных, часто сверкающих слов, можно сказать, что об этом он только и говорит, но на всех путях
Стр. 139
его темпераментного красноречия остается неясным, почему и как человек, выпадая через творческое потрясение из мира необходимости, попадает в Царство Божие преображенным.
Неясность эта капитальна и распространяется на мысль, на предмет мысли, на метод и даже на личность философа.
Н. Бердяев не только философ свободы, но свободный философ, может быть, небывало свободный. Если В. Соловьев и Н. Федоров еще выступают в рамках сogitо как конструкции субстанциальной всеобщности, то экзистенциальный базис метода Бердяева требует априоризма ко всякой предметности и ко всякой истории. Здесь Бердяев — ученик Канта и почитатель Ницше. И в то же время трансцендентальная аналитика существования априорно включена в христоцентрическую метафизику как идеал и транссубъективный предел ее имманентного опыта. Получается, что на вопрос, как совершается объективирование «чистой возможности», как конкретно осуществляется вхождение свободы и новизны в мир, Бердяев отвечает: через субъекта и субъектом — но не в духе феноменализма (Кант), или солипсизма (Фихте), или фикционализма (Ницше), а в духе, так сказать, парадокса персонализма: силой веры во Христа. Этим блестящим, хотя и непоследовательным ходом Бердяев порывает с гносеологизмом и вступает в область «экзистенциальной диалектики божественного и человеческого». Благодаря такой непоследовательности Бердяева, транссубъективная интерпретация христианства обретает универсальный профиль острейшей жизненной актуальности. Можно сказать, что его христианство есть эсхатология существования — радикальная символическая объективация трагедии индивидуального сознания. Именно символическая, ибо она не достигает самой действительности и остается исключительно в сфере идей. Это и понятно: онтологический принцип эсхатологии «момента» есть принцип дискретности, и этот принцип противоречит органической связи, требующей для любого процесса действительности построения последующего через предыдущее. Без органической связи действительность не становится конкретной. И даже если допустить, что отдельные моменты позволяют сращивать эсхатологию в пульсирующее единство, целостность этого единства остается символической.
Христология Бердяева символична, она не касается наиболее трудной проблемы христологии «снизу», и Бердяев действительно не знает и не чувствует Христа как Иисуса из Назарета, что делает его эсхатологию не столько христианской, сколько платонической. Конечно, универсальная структура такой эсхатологии конкретизируется и направляется историческим пониманием христианской миссии в мире, но за пределами такого понимания остается все то, что не входит в символику эпохи, в горизонт актуальности и исторической взволнованности. Вот почему за чертой экзистенциальной эсхатологии остается евхаристическая форма свободы, земная церковь как реальность и действительность: авторитет, таинства, молитвенный и аскетический гнозис…
Стр. 140
Спору нет, эсхатологическая миссия Святой Троицы в богочеловеческом процессе в наибольшей степени принадлежит Святому Духу, но упор на «эпоху Третьего Завета» отрывает пневматологию от христологии и эклезиологии и поглощает христианский гнозис антропологией. Это не проходит даром: малейшее невнимание к правде органического бытия, к проблематике становления есть небрежение величайшей тайной евхаристии, тайной жертвенной плоти и крови Сына Человеческого. За этим небрежением таится ядовитое начало гибриса — забвение, что «грех в мир вниде». Здесь, в отрыве от кенотического Христа, неизбежна подмена пневматологии духом диалектики, актуализацией пределов имманентного завершения: философией эроса и мессианским мудрованием.
У Бердяева экстатическая свобода не только вытесняет, но как бы поглощает евхаристическую. Он не чувствует и не может понять «серафимовскую эсхатологию» благодатного обожения, созидаемую духом молитвы — последним неотчужденным «языком» экзистенции — «ничесому же посреде сушу». Это не значит, что Бердяев не молится, но он не может увидеть эсхатологического величия молитвы, ее «слезную» примиренность с Божьим миром, ее «небрезгующую» жертвенную открытость ко всему живому. Эту последнюю позицию «сокрушенного сердца», вошедшего в терпеливое ожидание, в нищету индивидуального дерзания, — «ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8, 26), — вот эту «невестность» души, в муке и боли покаянной любви приготовляемую для Бога, для принятия даров, Свыше подаваемых и закрепляемых «снизу» теплотой надежды и близостью Божьего дыхания, Н. Бердяев чувствует мало и, прямо сказать, литургически слабо.
Тем самым возбуждается проблематика протестантствующей души, и в каком-то неявном смысле Бердяев повторяет на почве православия опыт лютеровского протеста против засилия «догматического законничества» (уступая, конечно, ему в глубине религиозного чувства, но превосходя в широте религиозной герменевтики). Отвергнутый во имя свободного богомыслия, церковный опыт возвращается в порядке «обратной связи» роковым соблазном ереси, и как это ни парадоксально, но мысль Бердяева — через самочинное сближение свободы и благодати, гениальности и святости, экстаза и подвига — впадает в очень тяжкое искушение переступить непереходимую грань, разделяющую тварное и нетварное, а сказать сильнее — в соблазн слить неслиянное. Дерзновенное оправдание человека творчеством в богочеловеческом процессе грозит обернуться, по острому определению Н. А. Лосского, «мракобесием свободы». Ведь если свобода как познанная необходимость имеет своим эсхатологическим концом царство науки, то свобода как нежелание знать необходимость (антитеза Бердяева) должна завершиться дионисийской одержимостью и сладострастием космического отрицания.
Стр. 141
Пока экзистенциальный персонализм Н. Бердяева остается христоцентричным, он на непосредственной периферии церковного опыта, в свободе самооопределяющейся личности предстоит, без преувеличения, гениальной пропедевтикой сознательного религиозного обращения, можно сказать — своеобразной эсхатологией оглашения. Без этого момента пути христианство как религия свободы неизбежно вырождается в религиозный пиетизм и морализм, в сакрализованное мещанство. И здесь Н. Бердяев, может быть, как никто другой национален и народен именно в религиозном смысле. Ибо каждый народ имеет свой ключ к христианству, и опасность русского религиозного максимализма получает в философии Бердяева, так сказать, первоклассную чеканку христолюбивого свободомыслия. Он здесь — подлинно «Кант» русской эсхатологической мысли. Но как только радикализируется проблематика персонализма, мысль тотчас дистанцируется от церковного опыта и оборачивается абстракцией взволнованного имманентизма, набором революционного пустословия, из которого выветрено всякое терпение и остался голый фанатизм бунтующего ума и протестующего сердца. Как ни тяжело сказать, но у этого «настроения» бердяевского духа напряженное отношение именно к Крещению, к «обрезанию» тварной свободы. Литургическое «Оглашенные, изыдите!» здесь воспринимается в тонах обиды и протеста. Благоразумию «разбойного чувства» недостает глубины покаяния, без которого персоналистическое одиночество вырождается в метафизическое сиротство, в не-до-верие, не-до-вольство и тотальную вражду с миром.
У Бердяева, в строгом смысле, эсхатологии нет, она элиминируется экзистенциальной катастрофой неподлинности. Экзистенция и есть эсхатология без Креста — страх недовоплощения, а не ужас богооставленности. Не решена «проблема» любви как последней неотчуждаемой в Боге свободы, свободы не твари от Творца, а Сына от Отца: послушания не как подавленности, а как Благоговения. Ведь свобода без любви и Креста опасна гордостью и профанацией святости; и в конце концов неясно, что творит человек, кому он отвечает в экстазе и не сам ли с собой уже нарцистически разговаривает.
Между экстатической одержимостью и христианской духовностью стоит Крест, на котором распинаемая боль любви освобождается для сил и энергий эсхатологического воскресения — не только духовного, но полного — телесно-духовного. Крест есть последняя ступень, огненная мета духоносного порыва плоти, еще несущей «в себе» вдохновение с возможностью просветления. За этой бытийной метой порыв уносится в демонию, в распыляющую дух и плоть оргийность. И реальность этой демонии есть как раз «обратная сторона» эсхатологической реальности: карающий и судный час Апокалипсиса, час страшной мировой операции по спасению, «година искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле» (Отк. 3, 10).
Стр. 142
Яснее всех, пожалуй, усваивает эту эсхатологическую диалектику С. Н. Булгаков (1871 —1944), в богословии которого восстанавливается неразличимая у Федорова и Бердяева грань между «веком сим» и «жизнью будущего века», так же как устраняется неразличимость апокалиптики и эсхатологии.
С. Булгаков с беспрецедентной, может быть, для всей русской философии силой воспринял религиозную ценность бытия, и потому его переход от философии к богословию был воистину онтологичен. Этот сдвиг есть как бы распятие субъекта познания, который, проецируя себя на собственные возможности, вместе с тем полагается — не гипотетически «через» мысль, не категорически «через» страсть, не аффинитивно, говоря языком классического гнозиса, — всем евхаристическим «составом тварности» на содействие животворящего Духа. Благодаря этому расширяется горизонт историчности как таковой, и ее эсхатологический момент своим сокровенным концом во всей его подвижности входит в субъекта и меняет «меру» и «модус» его исторической принадлежности, одновременно и сохраняя и обновляя его наличность и налично-экзистенциальную целостность. «.. .Весь мир есть собственность я, и природа есть глубина моего собственного духа, распахивающая передо мной свои сокровища». Однако двоица «субъект— объект» не останавливается на двойственности, а ведет к троице. Субъект не просто отражает, а опознает, «вспоминает» и познает реальность как «свою», так и природы, или же, «что одно и то же, он чувствует силу бытия, идущую из него и возвращающуюся к нему, и эта „животворящая» сила и есть, собственно, существование „в душу живу», жизнь, реальность, бытие» 14.
Так бытие перестает быть просто идеей или представлением, но возвращает себе лицо, оно есть бытие кого-нибудь и бытие ипостасное и логосное.
Революционная критика традиции и ее романтическая реабилитация здесь оказываются одинаково односторонними и требуют аскетического погружения ума внутрь предания: молитвы как глубочайшего гнозиса, трезвого терпения и ответственности за все бывшее, пребывающее и имеющее быть. На кресте христианского гнозиса, иными словами, распинаются предвзятость и предпосланность феноменологии категориального антиномизма; бытие как алогичность и бытие как логосная разумность таинственно для философского онтологизма связываются силой Святого Духа, и в личности «субъекта» знания не остается места для без- или подсознания, как не остается предпосылок для сознания in actu и in potentia. Это значит, что то, что воспринимается, и то, чем воспринимается, становятся виртуально одним и тем же, и благословение того, что есть, оказывается не менее свободной и творческой установкой, чем заданность на перестройку и обновление.
Это крайне важно для понимания именно эсхатологического чаяния, в элементах которого вселенский Крест примиряет все «субстанции» бытия, — и становится ясно, что теургическое искусство и теократическая власть у В. Соловьева, труд, наука и хозяйство
Стр. 143
у Н. Федорова, свобода и творческий экстаз у Н. Бердяева и т. п. — логически неисследимы, не имеют «конца» в себе, что этот «конец» вещей суть предел человеческой конечности, тот «край плоти», та «стена времени», в коих замкнуты человеческая имманентность и историческая исполненность. Н. Бердяев остро почувствовал эту трагическую приговоренность философии «конечных вещей» к антиномизму, к пустой бесконечности диалектических синтезов и пошел на риск беспрецедентного углубления свободы, постулируя ее нетварную сущность. Но обретая на этом пути глубокое субъективное чувство Бога, он, увы, часто терял веру в Божий промысел и мужественно признавал бессмысленность мира и человека, их богооставленность 15.
Богословская мысль С. Булгакова предстает в этом отношении наиболее зрелым продолжением линии учения В. Соловьева о Богочеловечестве, выправлением ее утопического изъяна. Конечно, у Булгакова, глубоко усвоившего софийный строй вселенной, ее таинственную мощь и отзывчивую самобытность, нет победы над антиномизмом космоса. Антиномизм не преодолен, а скорее возведен к своему пределу—даже с риском внести его в надмирную реальность Святой Троицы (печать не преодоленной в его софиологии «сотериологической» функции диалектики, т. е. застывшего онтологизма), но это риск не гнозиса, не метода, не свободного «подвига», а молитвенный стон самой распинаемой ереси жизни, знающей свой неразмыкаемый грех и стенающей Богу у последней черты: «Господи, да будет воля Твоя». Вот почему у О. С. Булгакова единственным оправданием христианского гнозиса и единственным упованием христианской жизни выступает благодать, в свете которой он находит историческое оправдание и мистической нервозности Соловьева, и хилиастической страсти Федорова, и творческого нетерпения Бердяева — вообще всему взволнованному и страждущему Космосу. И поскольку энергия благодатного света сообщается человеку и делает его причастником таинств, она может быть познанием «начал» и «концов» вещей, герменевтикой Царства, хотя совершенные богознание и боговидение остаются тайной «восьмого дня», сокрытой под семью эсхатологическими печатями. Эсхатология у Булгакова, таким образом, совпадает с творческим призванием Церкви — хранительницы таинств, «Невесты Агнца», соединяющей божественную благодать с человеческой свободой. Присутствие благодати в человеке есть максимальная стяженность его тварной личности в нетварности Божьего света, ософиение природного мира как явного и скрытого тления, и это ософиение достигается не эманацией эсхатологического или наркотического самобытия свободы, а сознательным литургическим сотрудничеством Бога и человека, синергией промысла и подвижничества. Эсхатология и здесь воспринимается не фаталистически, а динамически, но снятие с мировых вещей их конечной судьбы, эсхатологической грани, да в целом и все это космическое «mensuration ad rem»— снятие «мерки» с вещей — стоят в зависимости от того, как и насколько
Стр. 144
наша тварная природа терпит и надеется, послушничает у «входа» и «стучится в дверь», чтобы быть, по слову Апостола, «светом в Господе» (Еф. 5, 8). «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» (Там же. 5, 14)—вот эсхатологическая максима жизни, примиряющая софийную кротость равного себе бытия со свободой революционного дерзания.
Это есть эсхатология риска, притом именно Божьего риска; она открывается и спасает только в свободе и только через новое рождение личности. Поэтому все расценки, критерии и приговоры последнего суда — над политикой, хозяйством, искусством и культурой — конкретно выявляются не эсхатологически, а исторически. Они не окончательны, а относительны, и в пределах своей заданности остаются в элементе человеческой свободы, т. е. на совести каждого. Иначе, по Булгакову, и нельзя в христианском промышлении, ибо совесть и есть тот динамический момент тварной Софии, силой и судом которой приходит в движение «общее дело» Бога и человека. Совесть — «зеркало» Софии нетварной, в каковом тварь видит свой образ и подобие. Вот почему переход историзма в эсхатологизм трансцендентен культуре как таковой, но имманентен ее оцерковленности. Этот переход, иными словами, стоит под знаком не только негативной свободы (совести), но и благодатной свободы (любви), под знаком евхаристической ответственности, определяющей, кто идет в воскресение света и есть ли чему воскресать.
Это, пожалуй, один из самых глубоких моментов понимания Булгаковым евхаристической природы человеческой конечности, самой смертности как таинственной развернутости жизни в глубину эсхатологической мистерии крестного подвига Христа.
Удивительно ярко это раскрывается о. С. Булгаковым в работе «Друг жениха: О православном почитании Предтечи» (Париж, 1927), составляющей часть трилогии о Богочеловечестве. В этой работе пересматривается богословский смысл темного вопроса Иоанна Крестителя, заданного им через двух послов к Иисусу из тюрьмы накануне смерти: «Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого?» (Мат. 11, 3). Этот страшный вопрос, которым отменялся весь жизненный подвиг Предтечи и Крестителя, традиционная экзегеза объясняла психологическими и натуралистическими мотивами тюрьмы и близостью казни. Но этому противоречила реакция Спасителя, не давшего прямого ответа, но заключившего: «Блажен, кто не соблазнится о Мне» (Там же. 11, 6). И лишь отправив послов с этим ветхозаветным приветом Другу, Христос обратился к народу с огненным Словом: «Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Там же. 11, 11 —12).
Прозревая в смятенном сердце Иоанна всю темную бездну сомнений и богооставленности, Спаситель знал духовную мощь и окончательную победу Своего Друга, как знал и то, что только
Стр.145
в предельном, поистине апокалиптическом напряжении и борении сил сгорают последние искушения веры, жгучие соблазны и страхи и человек эсхатологически исполняется для вечности. Ибо вера есть опыт абсолютной и совершенной свободы, осознанный подвиг Креста, имеющий свою развязку и свой катарсис — судный день гефсиманского одиночества, в очистительном огне которого окончательно исполняется личность для полноты смерти, а значит — для полноты воскресения. Подвиг веры имеет свою кормчую звезду, освещающую эсхатологический край каждой жизни — гефсиманский круг абсолютной богооставленности, и только этим испепеляющим пределом утверждаются полнота и сила воскрешающей возможности. Вот почему Царствие Божие «нужницы восхищают»: должно свершиться реальное выхождение не только из природы, мира и времени, но — из таинственной для человека и трагической по природе возможности греха, чтобы абсолютно смолкли житейские бури и пресеклись «человеческие глаголы», суета и мудрование и остались решимость и упование на одного Бога во Христе. «Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?» (Иоан. 18, 11) —эти слова гефсиманской скорби и тоски образуют «полноту возраста», ту меру послушания и любви, которой осуществляется симфония свободы и благодати, индивидуальной и абсолютной воли. И в свете этого согласия великие слова Предтечи «сия-то радость моя исполнилась; Ему должно расти, а мне умаляться» (Там же. 3, 29—30) являют собой эсхатологический ответ на вопрос о нарастающем восстании сынов на отцов (по Федорову), так же как ответ на вопрос об историческом нарастании бунта личных свобод (по Бердяеву).
Богочеловеческий процесс у Булгакова не есть добыча диалектики, но именно — подвиг веры, усилие духа, выходящего из задач и заданий имманентной истории. Только на этом крестном пути преодолевается фарисейская закваска отцов законничества и бесовская закваска сынов нетерпения. И не потому, что в послушании и умалении есть блаженство муки любви, но потому, что в полноте завершения старого есть решимость жертвенной любви — благодатный задаток, которым Бог открывает себя как самоизливающуюся любовь, т. е. как сущность внутрибожественной троичности.
Закон не может вместить благодать и совесть, не может стать любовью, но чтобы решимость жертвенной любви не осталась волей к воле, судом и зовом только совести, но стала евхаристической жаждой и болью сердца, она должна стать соборной. Ибо только евхаристия окормляет всего человека, как духовного, так и плотского, потому что только в ней и ею усилие свободы претворяется в любовь и вера становится видимой.
О. Сергий Булгаков — мыслитель-священник во всем каритативном значении этого слова. Он восстанавливает способность воинственной церкви — воистину ломимого за наши грехи тела Христова — возглавить не только «малое стадо», но и все сбившееся на путях свободы человечество. Это тот редкий случай,
Стр. 146
когда мы конкретно чувствуем современного пастыря в его подлинно эсхатологическом признании как мыслителя, жреца и вождя.
Согласно о. Сергию, Парусия и Страшный Суд знаменуют полноту времени, полноту бесстрашного видения райской и адской бездны, и именно такое положительное и мужественное отношение и есть христианская апокалиптика. Историю нужно изжить, а не кое-как окончить, и бой предполагает не обессиленную Церковь, а всю ее славу и мощь. Православие черпает эту силу в надежде на то, что «милость превозносится над судом» (Иак. 2, 13), а значит, всех ждет апокатастасис — всеобщее спасение. Эсхатологический глас «Ей, гряду скоро! Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Отк. 22, 20) обоюдным усилием риска свободы и любви вытесняет историзм и сотрясает Вавилонскую башню культуры. Но для «взыскующих Града Небесного» и для «верных в малом» глагол этот — не источник страха и ожесточения, а камень веры и упования 16.
Мы отдаем себе отчет в том, что наш крайне схематический очерк в некотором роде есть грубый «дайджест», резюмирующая цена которого не искупает пороков его «прокрустова» нрава. Но делать нечего, такой ценой нам легче сохранить тот «фон», на который можно нанести хоть сколько-нибудь ясный контур эсхатологической темы в творчестве Г, П. Федотова. Иначе сделать это было бы много труднее.
Г. Федотов не оставил после себя, что называется, opus magnum, не выразил своей философии в целостном виде. Почему — не беремся здесь судить, но подчеркнем, что он был подлинный артист философского очерка и реферата, мастер оценки, вывода и прогноза, мгновенной умной реплики, столь необходимой для восстановления здравого смысла в демагогической стихии века.
Еще не пришло время оценить русскую философскую мысль как единый субъект церковного задания и поступка, но когда смотришь на дело Федотова с этой точки зрения, невольно видишь в нем известные восполнения гения Бердяева. Федотов конкретен, историчен, может быть, как никто, и одновременно, как Бердяев, свободен и персонален. Сущностное событие, которым он осуществляет вопрошание смысла бытия, есть, главным образом, событие, укорененное в политике, в стихии становления всеобщности и порядка. Бороться за свободу в этой сфере труднее всего. Здесь нужен стальной закал ума и воли, аскетическая трезвость, быстрота реагирования на опасность, стремительный набег на врага и т. п. Федотов — настоящий Партизан христианской свободы, и в своем служении ей на почве политики и культуры он поистине героичен.
Дух свободы вообще является, надо думать, первозванной харизмой в природе всякой гениальности. Об этом можно говорить с пониманием всей трагической обреченности гения, который идет к чистым высотам христианской мистики, пренебрегая аскетическим очищением стихийного порыва свободы. Гений растет
Стр. 147
свободой и становится ею, свободой он порывается в будущее, ею же впервые выносит настоящее из плена вечного возвращения — не только из природной связанности, но и культурной и всякой вообще нормативности. Органическое, циклическое, законническое «тело» жизни очищается от склеротических образований, от «косности» текучего времени исключительно силой гениальности, вовлекающей в круг жизни неведомое будущее, свободу и новизну. Будущее всегда есть, но есть не как время, а как бремя, как нерожденность символов и знамений. И хотя эти символы живут, по выражению Федотова, «недоносками царства идей», в них уже созвучно земным влечениям дана Идея. «Идея дана — культура задана», и гений есть своего рода эсхатологический меч, занесенный над всякой культурой, — как и над всякой эпохой, нацией, народом, — впадающей в «законническую» самодостаточность, в ересь самонадеянности и самотождества. Но, выполняя эту святую задачу, сам гений выносится энергией свободы «вовне» апокалиптической реальности, за грань самосуда; и самораспятия. Трагедией гения жизнь катарсически очищается от ереси фатализма и космической одержимости, но сам гений, являясь орудием новизны, не становится новым, не спасает свою свободу, но творит. . . для личной катастрофы.
Можно сказать, что счастливым уделом таланта Федотова было то, что он как агиограф постоянно и глубоко погружался в историю христианской святости и, заражаясь духоносной церковностью подвижников веры, так сказать, «намагничивал ею способность „различения духов“». Тем и сильна его публицистика, что, отпущенная в стихию поистине вулканической эпохи, она фиксировала колебания исторической «коры» времени не критериями партийного интереса, вкуса, долга, новизны и т. п., а единственно — Крестом, вселенской мудростью Церкви. И под этим судом все остальное—и вкус, и новизна, и пресловутая злоба дня, и актуальность — становилось потенцией воплощения других вещей, формой, возможности другой реальности, онтологически более высокой и «необходимой». Вот почему публицистика Федотова, калейдоскопически пестрая, неудержимо многотемная, при самом легком повороте сюжета — даже, бывает, суетно газетном — вдруг сверкнет духоносным светом «последней» правды, той пленительной ясностью и прозрачностью, в коих тотчас узнаешь церковно воспитанный и дисциплинированный разум.
Спору нет, для полноты обзора эсхатологической темы у Федотова еще не пришло время. Архив его, обильно рассыпанный по миру, еще далеко не собран, и мы можем наметить лишь общий контур темы, не более того. И если в этом случае позволительно пренебречь требованием детальной пагинации дробного публицистического вороха материалов, то мы наметим несколько наиболее значительных эсхатологических мотивов.
- Раньше всего укажем на понятие смерти, которое у Федотова является эпицентром религии Воскресения и последнего Суда. Федотов смотрит на тайну смерти с остротой, сравнимой,
Стр. 148
пожалуй, со смелостью взгляда Л. Карсавина (уступая последнему в понятийной разработке, зато и ограждая себя от пантеистических соблазнов диалектики карсавинского понимания Бога как «Жизни-чрез-Смерть»).
У Федотова самая граница полного и неполного умирания, глубина «смертоощущения» проходят внутри религиозного круга и этим определяют правду и ложь всех религий. Ибо феноменальное бытие раскрывает антиномию жизни и смерти в парадоксе таинственного родства: где сильнее всего напряжение жизни, там сильнее и смерть. И эту обжигающую правду можно видеть даже в любви, в самой истоме торжествующего восторга как окончательной победы и окончания ее. Смерть грехопадением мира входит в самое источники жизни и гнездится «там» как по феноменальной принадлежности, так и по ноуменальному существу 17. Но если натурализованные религии силой Эроса спасают от смерти лишь природного человека, то христианство впервые проносит сквозь космический плен то, что только и может быть вынесено из тлена и смерти — самое личность человека. В христианстве темный путь зерна, «умирающего до конца», становится прозрачным, и смерть как «последний враг» всеединства, обрекающий человека быть живой иллюзией в потоке возникновения и исчезновения, оказалась меньше жизни, если жизнь полна любовью. Эта высшая жизненность христианства началась в ветхозаветном Боге, который закрыл от Израиля темную бездну природы и, наложив запрет на пантеизм, стал впервые Богом личного завета, Богом эсхатологической перспективы спасения.
Но только Крещением этот запрет поднял человека на высоту свободного духовного подвига и стал фактической смертью стихийно-природной жизни. Вот почему апокалиптика Нового Завета есть эсхатологическая кара за недостаточную полноту жизни, за боязнь Креста. «Христианству чуждо отношение к смерти как ко сну и покою. . . Всего ужаснее для христианства рождающаяся от усталости и бессилия тоска по „эвфанасии“, легкой и блаженной смерти. <. . .> Петроний, открывающий жилы в благовонной ванне, — вот что максимально противостоит Кресту — гораздо более, нежели наивное и радостное упоение жизнью. Не бойтесь: если любить жизнь крепко, любить такую, как она есть, пленительную и тленную, то эта любовь будет непременно распята, и чем сильнее она, тем мучительнее ее крест. <…> Борьба, которая ведется сейчас в мире за человеческий дух, это и есть борьба между Буддой и Христом, между нирваной и вечной жизнью. Безрелигиозные, даже атеистические силы лишь резервуары для религиозных энергий, которые разделяют человечество» 18.
Между безвольным кенозисом, в котором гаснет сознание, и хмельным «щегольством жертвой» душу человека проходит эсхатологический меч — оружие испытания крещальной зрелости души. Это и есть Суд, приговор которого прост и суров: страшно отдаться в плен духам стихий, еще страшнее в анестеризованной эвтанасии угасить Дух. И в разрыве между жизнью и смертью
Стр. 149
страх небытия клонит к отречению от борьбы и ответственности, к возвратному поглощению тварного в тварном либо зовет восстать и в приступе отчаяния, по словам любимого Федотовым Блока, отдаться «огневым поцелуям смерти».
Как жизнь есть путь, так и смерть есть путь — долгота и бремя испытания, и проходит его тот, кто идет следом Сказавшего: «Иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мат. 11, 30).
- С момента Воскресения Христа во плоти на Суд Божий идет не душа, а весь человек, и это обстоятельство обостряет в религиозном мире проблему отношения эсхатологии и антропологии.
Г. Федотов исходит из того, что сила Святого Духа и сила Греха — суть два самых мощных фактора истории, в отношении между которыми все сбывается и все сбудется. Но для христианской антропологии особое значение имеет принятие горькой правды о человеке, открытой социальным натурализмом XIX и XX веков.
В связи с этим следует подчеркнуть, что по доминантам мышления взгляды Федотова весьма напоминают культурфилософию Ортеги-и-Гассета. Но если последний, осмысляя кризис европейского гуманизма в эпоху «восстания масс», завершает свои инвективы против метафизики апологией «витального духа» и «нового спортивно-праздничного чувства жизни», то для Федотова эта же фиксация становится рубежом его глубокой оппозиции витализму. «Технический и спортивный дикарь нашего времени, — писал он словно бы в полемическом ответе испанскому мыслителю, — продукт распада очень старых культур и в то же время приобщения к цивилизации новых варваров» 19. В том-то и дело, что в этом празднично-спортивном чувстве жизни, «питающемся интернациональным месивом из спорта, кино и газет», ищут спасения от вопросов духа. «Современный фашизм и коммунизм именно поэтому оказываются соблазнительными для многих тонких умов, ренегатов гуманистической культуры» 20. Из этих обрывков гуманизма и христианства хотят творить «веселую религию доброго гедонизма, с обязательной улыбкой и забвением смерти»21. Правильнее говорить поэтому, что свобода предана не массами, а интеллигенцией, культурной элитой, изверившейся в безрелигиозной культуре и заболевшей нигилизмом и авантюризмом. Народ передоверил интеллигенции защиту своих интересов, потому что он верил в тот же разум, в ту же науку, в которые верила она.
Смерть гуманизма, по Федотову, есть следствие разрыва с непостижимой тайной благодатной жизни, с мистическим опытом Церкви и духоносной природой святости и свободы. Необходимо мужественно признать, что человек стал предметом отрицания и унижения как раз в передовых явлениях современной культуры. Подавляется прежде всего целостный человек, соборная личность, причем подавляется «во имя мира идеального (кантианство) и мира социального (марксизм, фашизм), ради духа и ради материи, во имя Бога и во имя зверя»22. Это «расширение» духа
Стр. 150
и тела парадоксальным образом не обогащает человека, а истощает его. Самая идея мускульной жизни тела, самодовлеющего характера спортивного рекорда, полагает Федотов, несет в себе религиозную пустоту бесконечности — бездну, в которую рано или поздно падают «взлетающие Икары». Духовность же, оторванная от тела, бессильна найти человеческий критерий святости и блага. Эротика замещает любовь, жестокость вытесняет сострадание и в этом значении выступает симптомом силы. Поэтому, глядя на современных «духоносцев», и впрямь «трудно решить, от Бога они или от дьявола». «Внеэтическая духовность и есть самая страшная форма демонизма»23.
Таким образом, современный человек становится больше зверь и больше дух. И вот это расширение в обе стороны душевно опустошенной сердцевины, потеря центра единства чреваты разрывом и сломом человеческой природы как таковой.
Что это, увы, не вывих истории, не сбой ее поступательного ритма, а могучее давление на эсхатологический горизонт жизни бестиальных и демонических сил, говорит «горькая правда социального натурализма» всего XX века.
Эту тему Федотов разрабатывает с редкой силой и многосторонностью. Главная мысль его: во все устремления современной цивилизации прорываются демонические силы, чтобы исказить и замутить священный источник Божьего дара человеку, которым эти силы сами не владеют, — опасного и дивного дара свободы. Все делается и все уже почти сделано для этого, и вывод Федотова страшен: «Современный человек не нуждается в свободе. Он предает ее на каждом шагу…»24
Федотов видит эту измену везде и повсюду: в экономике, которая, освобождая человека от непреложных забот, становится сплошной и глобальной машиной программируемого производства и потребления; в технике, которая, вместо того чтобы следовать призванию — расширять физическую природу человека, вошла в его свободу и стала во всем — от секса и любви до культа и молитвы — тотальным отрицанием софийности мира, а значит — смертным приговором душе; и в художественном творчестве, которое забыло божественный замысел о просветлении чувственной природы человека и в ненасытной жажде острых переживаний открыло настежь все двери для заражения токами эротики в чувственной патологии; и в организующей порядок «общего дела» политике, в переливчатой игре ее партийных страстей, в которой стали «крепнуть клетчатки» новой «массовой союзности», поедающей свободу во имя рационально спланированной повседневности, т. е. расширения жизненной площадки пошлости.
Не укрылась от этой участи и религия. Ведь свобода веры предполагает свободу неверия. «Но когда свобода неверия (сомнения, исследования) становится центральной, меняется все человеческое содержание ее: из целостной, объемлющей все ценности и все стремления человека, она становится чисто интеллектуальной» 26. Где работа ума не приближает к идеалу и не дает
Стр. 151
счастья, там рождается иное понимание свободы — как активности, изживающей себя в действии. «Но если так, то свободу можно обрести в подчинении чужой воли, лишь бы эта воля повышала мое динамическое самочувствие»26. Для темной религии нового язычества гибель не страшна, раз ценой спасения от гибели является свобода. Да и чему уже, спрашивается, гибнуть, если погибла душа?
Самобытен взгляд Федотова на местоположение духовной сущности человека, наследника идеалов титанизма, в современной технической ситуации. Он видит, что вся совокупность первичных сил цивилизации — природа, хозяйство, техника — уже перестала быть мертвой массой, которой человек на протяжении тысячелетий «вдавливался в мир материи». Кончается кошмар человека — раба природы, придатка машины и хозяйства, и по мере того, как расширяется власть людей над миром, над временем и пространством, мертвая масса природы вместе с человеком преобразуется в энергию. Освобождаются «метапсихические» силы человека, которому отныне по плечу эта безмерная власть над космической стихией. И что гораздо важнее, «по-видимому, в мире возрастает и число людей, одаренных некогда таинственными способностями: внушения, ясновидения, телепатии. Кажется, что человек перерождается на наших глазах, раскрывая почки новых чувств и сил, доселе доступных только редкому духовному опыту. Материализм, — заключает Федотов, — убивается эмпирически, и в недрах самой механической из цивилизаций начинают действовать самые могущественные энергии: энергии духа» 27.
Но чем больше собирается энергии в дегуманизированном мире, тем скорее он идет к катастрофе. Глубина совершающегося сдвига сущностных сил столь велика, что мир может погибнуть внезапно — мгновенной вспышкой и взрывом. Вот почему дело спасения мира на этой глубине зла сливается с делом христианства. Шпенглеровскому отказу от сопротивления, прикрытому маской стоицизма, должна быть противопоставлена христианская свобода воли. «Лишь долженствование дано во всей абсолютности. Необходимость историческая всегда относительна. Это лишь поток, течение событий, нас увлекающее. Нужно плыть против течения. Вот и все» 28.
Но христианский исход мира не есть экзистенциально-персоналистический бунт и протест. Это — план Богочеловеческого Домостроительства, в котором человек — соработник и сотрудник эсхатологического обетования. Вот почему в этом плане ключевым вопросом является вопрос о судьбе земной власти.
III. Теократическую концепцию В. Соловьева, в которой три
равночестных субъекта власти — Пророк, Священник и Царь — должны подготовить приход Царства Божьего, Г. Федотов отрицал. В исторической судьбе Кесаревой и Боговой власти, если и можно говорить о прогрессе, т. е. о пути к Царству Бога, то он состоит в сужении власти Кесаря или — что одно и то же — «в расширении сферы свободы за счет сферы власти»29. На этом
Стр. 152
основании Федотов полагал рискованный и очень сильный тезис о прямой генетической связи христианства и европейской демократии. Реформация в этом отношении обнаруживает свою подлинную эсхатологическую каритативность, ибо если Бог обитает не только в храме, но и в христианской личности, то каждая личность в своей изначальной глубине может быть престолом Славы. «Вот почему христианин, отстаивая перед государством свою свободу — не только молиться, но и мыслить, творить, устанавливать нравственные связи с миром людей, борется не только за свою собственную свободу (как либерал-индивидуалист), но и за власть Бога в мире, за Царство Божие» 30.
Форма социальной демократии для этой борьбы, считал Федотов, представляет наибольшие возможности. Она создает динамическое напряжение между целым и частью, каноном и новизной, вообще максимализирует отношение свободы и порядка и тем самым несет в себе наивысшие соборные начала в отборе личных харизм власти. Демократия (конечно, если она идентична себе) строит этот отбор не на наследственном, не на фаталистическом или арифметическом, а на харизматическом принципе. Демократия, таким образом, ставит проблему таланта как общественную и даже как соборную.
В то же время Федотов понимал, что, в отличие от античной родовой демократии, европейская ее форма построяется на дуализме власти народа и свободы личности. И это раздвоение сообщает демонической природе власти дополнительные возможности. Федотов видит эту сторону в той ее оголенности, какая дается только в бесстрашном, небрезгливом исследовании политических кошмаров XX века. И здесь Федотов идет дальше своих предшественников, особенно в разоблачении демократии фашист-ского и коммунистического типов. Частично об этом уже говорилось, но необходимо подчеркнуть религиозный аспект вопроса, его крипто-эсхатологическую суть.
Основное социологическое различие между западным фашизмом и русским коммунизмом Федотов видел в том, что первый возник из разложения демократии (как политическая реакция на ее слабость), второй же — из-за отсутствия демократической традиции. «Там разочарование в ней, здесь ее девственное неведение» 31. Но по содержанию идеала и коммунистическая, и фашистская «демократии» связаны с очень глубокими основами народной этики, прежде всего с навыками векового рабства, социальной зависти и подавленной злобы.
Этим народным ресурсом — злобой и ненавистью — и питается данный тип «демократии». «Из чугуна этой злобы только и могла быть вылита страшная машина государственного террора, а когда она была вылита, то не трудно было уже… превратить старый революционный коммунизм в истинно русский фашизм. Все это было сделано не по воле народа, но при его соучастии с использованием самых низких инстинктов его души. В этом и состоит зловещее отличие современных тираний от всех известных в истории.
Стр. 153
Новые делают свое гнусное дело против народа, но через народ; они считают, что это дает им право называть себя демократиями» 32.
Демонизм коммуно-фашистской демократии в том, что она заменяет отсутствие внутренних скреп страшным механическим давлением, под прессом которого «атомы личности» становятся голым элементом единого робота — государства. Крипто-апокалиптической чертой этого «холодного зверя» является то, что он борется только за себя, за свою «чистую мощь», почему и принимает «форму социальной религии, требующей человеческих жертв» 33. «Изумительный организационный аппарат ее [этой демократии] сводится главным образом к искусству игры на человеческой низости»34, так что палач по призванию превращается в воспитателя и вождя. Субъект такой власти движим исключительно демонстрацией твердой воли и стойкой ненависти, которые заменяют для него все добродетели солдата и бойца фронта идеократии. И все строится на энергетике злобы и ненависти. Выра-батывается тип безжалостного мстителя, «человека-танка», своего рода сурового «аскета зла», который в пределе своей осатанелости, как правило, либо сходит с ума, либо стреляется.
Что касается объекта этой власти «нового идола», как ее назвал Федотов, то на него ложится густая и плотная тень лжи 35. Ложь становится формой всеобщей повинности, буквально — горизонтом сознания, определяющим собой всю действительность, так что в субстанции отношений отцов и сынов извращение психики, свойственное бессилию побежденных, порождает моральную ригидность и цинизм отцов и через поколение (как итог атрофии общественной совести) — умственный инфантилизм сынов. Не случайно, добавим от себя, именно на этой почве безрадостной и мрачной жизни набирает «чистую мощь» эстетика и этика злорадства — радость о зле как «орудии» бессилия и тотальной заклятости ложью. Если к этому добавить трудный быт, бесправие, кащеев дух взаимной слежки и доносительства, концлагеря, страх и неустройство души, схваченной в каждом атоме жизни брутальным клеймом «навечно»,— кажется, это и есть настоящий опыт ада.
Во всяком случае, необходимо решительно согласиться с мыслью Федотова, что историческая смерть этих идолов «демократии» возможна только в перспективе глубокого чувства Общенациональной вины, в подлинно эсхатологической перспективе покаяния. «…Отделение народа от его преступной власти — невозможное исторически и этически — является политической необходимостью: не в порядке сущего, а должного, особенно для сторонних или даже враждебных наций» 36.
Прозревая возможность политического освобождения России, Федотов подчеркивал опасность пробуждения ущемленного национального самолюбия и, как ее темную сторону, безмерность притязаний и разрыв с человечеством. На глубине религиозного понимания опыта ада грехи общие и вина общая. Почему и в отношении к развращенным тоталитарной тиранией народам
Стр. 154
единственная помощь — помощь возрождения, единственный путь — путь покаяния.
Эти мысли Федотова для нас сегодня — словно бы телеграмма из будущего. Опыт ада — самый дорогой опыт в религии Голгофы и Креста. Он не может и не должен быть поглощен «веселой религией гедонизма», шумной «полноты» динамического самочувствия. История не поглощает смерть, особенно — смерть вопрошающих в бесправии и невинности. А их были тьмы и тьмы… поэтому вместе с Федотовым скажем: будем хранить и завещать в века светлую, просветленную непримиримость. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Эф. 6, 12).
Религиозное обоснование демократии Федотов рассматривал, пожалуй, как важнейшую задачу в современном христианском мире. Понятно, что оно доходит до нас преимущественно как его завещание: он хорошо понимал, что положительное решение этой задачи есть дело опыта, а не теоретических выкладок. Тем не менее, для нас существенно то, что он искал это обоснование не на путях иррациональной символики (что значимо для институтов монархизма), не в идее большинства (пресловутого плебисцита, которому пропели аллилуйю маститые культурфилософы Европы Ратенау, Ортега-и-Гассет, П. Сорокин и др.), не на путях также компромисса (ныне замещенного паскудным словом «консенсус», которым прикрывается условность Божьей реальности) и даже не в правах личности и ее суверенитета (что обеспечивает свободу «от» общества и государства, но не «для», а тем более — не во Имя) — а в порядке роста правовой независимости и действенной обеспеченности «общего дела», «общей жертвенности», «общей ответственности» на путях методологического плюрализма, но онтологического единства государства и общества. Нам представляется, что главная мысль Г. Федотова является предшественницей (и, кажется, не без сознательного преемства) главной мысли А. Солженицына, изложенной в трактате «Как нам обустроить Россию»: политическая форма власти не должна погасить религиозную свободу соображениями и доказательствами полноты жизни, полноты витального существования. Необходимость баланса государственных и корпоративных интересов, партийных и представительных форм власти, выборов и т. п. должна отвечать «творчеству (а не выражению) народной воли»37. Демократическая власть есть единство народа, а не служба ему, ее главный смысл не в подчинении большинству, а в освобождении личных харизм, в укреплении воли, энергии и такта субъектов свободы, ибо свобода выше существования, выше жизни38.
Свобода есть «очищенное от всякого идолопоклонства» служение, «вдохновение, послушное высшей воле», сказал однажды Федотов 39, и в этом самобытном определении свобода предстает как растворенная любовью жертвенность, как радостная боль творческого смирения. Если держаться этого определения, то следует
Стр. 155
согласиться с тем, что «в последней глубине свобода человека совпадает со свободой Бога» 40. Но тогда надо помнить, что источник свободы не в личных правах и не в структурах власти, хотя бы и теократических. «Не в царстве и не в священстве, но в пророчестве она рождается: в самой свободной сфере Царства Божия. И это сознание. . . должно охранять ее достоинство» 41.
Здесь Федотов, как легко заметить, смыкается с позицией Бердяева в общих подходах к идее теократии, но он с несравненно большим религиозным прагматизмом относится к перспективе развития европейской демократии и решительно осуждает религиозно-персоналистический нигилизм Бердяева в отношении социологии власти вообще. В этом смысле, возражал Федотов, «апокалипсис культуры не означает ее расплавленно-бесформенного состояния, но лишь ее готовность к самопреодолению в Царстве Божьем»42… «Там, где культура сжигается в пожаре апокалипсиса, где пророк убивает поэта, работника и вождя, там нет места человеку: пророк ведь только голос Божий в человеке. Самоупразднение человека в нем достигает своего предела. В этом внутреннее противоречие профетической антропологии»43.
Но здесь резонно встает вопрос, каковы конкретные основания религиозного прагматизма Г. Федотова? Это вопрос о социалистической его ориентации и, скажем прямо, вопрос, недостаточно им проясненный. Мы, впрочем, его затронем в одном аспекте, а именно: каков, собственно, исторический смысл социализма и есть ли у него эсхатологическое оправдание. Этот вопрос представляет для нас сегодня понятный интерес, и мы вправе искать на него ответ у «христианского социалиста» Г. Федотова.
- В порядке исторической диалектики социокультурного развития социализм представляет собой довольно запутанное понятие. Федотов смотрит на теорию радикального «революционного социализма» («марксизма» и особенно «ленинизма») как на капитуляцию перед духовной сложностью жизни, поэтому трактует этот тип «черного богословия без любви» преимущественно в историческом горизонте разрушения и зла. Его привлекает позитивный социализм, вырастающий на почве христианского идеала «общения в любви и хлебе», а не «рецессивная» генерация этого идеала, построенная на актуализации антагонизма и ярости. Но и в такой исторической перспективе понятие социализма весьма противоречиво.
В идее общей свободы социализм является довольно серьезным аргументом против экономики частной инициативы и в борьбе с ней полагает известную альтернативу личных прав и полноты общего существования. Это значит, что в режиме «связанного капитализма» коррелятивность свободы и порядка становится предметным содержанием всей диалектики социалистической жизни. Смягчая отношение господства и рабства, разрушая антагонизм классов, социализм в идее власти усиливает отношения, базирующиеся на холодных договорных и конвенциальных началах, и ослабляет соборные, родовые, семейные формы жизни,
Стр. 156
основанные на духовной субстанции Отца и Сына. В идее труда социализм не выходит за пределы антитезы буржуазной политической экономии. И если, как подчеркивал Федотов, у последней основной порок — в недостаточном внимании к процессу распределения, то порок социализма — в наивном отношении к производству. Иронизируя над этой наивностью, в которой сказывается лжеонтологизм социализма, его исходная враждебность к реальности, Федотов писал: «Материальный интерес для хозяйства является таким же конститутивным признаком, как сексуальная жизнь (не разврат) для брака. Можно до конца спиритуализировать отношения супругов, но тогда семья перестанет существовать» 44.
Но самое главное то, что социализм как наследник развития идеи технологии, организации и регулирования становится завершением рационального замысла Ренессанса и его метафизического обоснования у Декарта, Спинозы и Лейбница. По существу, социализм здесь является несущей конструкцией эсхатологии титанизма, и как бы эта конструкция ни совершенствовалась (а в революционной практике коммунизма она обернулась настоящим сатанизмом, сказавшимся в сверхчеловеческой энергии и жестокости, какие были вложены в индустриализацию, коллективизацию, в стройки пятилеток и т. п.), внутри такой идеи жизни все время присутствуют ядовитые ферменты одержимости и безумия, отравляющие целостность этой жизни и ее духовное здоровье. Пока технология является теологией масс, возглашал Федотов, нечего и думать о восстановлении должного строя.
В той мере, в какой социализм успешно будет решать проблему производства, будет расти и тучнеть главная апория титанизма: между трудом и его смыслом. На языке политической экономии это противоречие Федотов определил как проблему внерыночного распределения: как осуществить даровое потребление, не развращая массы даровой жизнью и не убивая мотива личной заинтересованности в производстве? Конечно, в нашем нынешнем положении этот вопрос может вызвать только раздражение, но все же вместе с Федотовым нужно сказать: «это самый трудный вопрос современного социализма»45. Без его решения социализм рано или поздно превратится не просто в исторически фиксированную фазу греха, а в его высшего и, можно сказать, апокалиптического субъекта, в Вавилон — «мать блудницам и мерзостям земным» (Отк. 17, 5). Вот поэтому, надо полагать, в эсхатологической перспективе конститутивным историческим признаком социализма Федотов вслед за Бердяевым выдвигает идею воспитания. Проблема воспитания — это и есть духовная проблема социализма, его «быть или не быть» 46.
Ясно, что средствами власти, труда и культуры духовную проблему не решить, и социализм как форма жизни должен повернуться своим «лицом» к христианским началам общественности, к истокам своего происхождения. Если революционный социализм в свое время вынудил церковь выступить против капитализма
Стр. 157
в защиту трудящихся (и в этом, несомненно, его историческая заслуга), то христианская церковь вынудит зрелый социализм выступить с программой духовных идеалов жизни, с идеей возрождения в мире абсолютного, т. е. религиозного, начала; иначе под напором «веселой религии гедонизма» и наркотических свобод социализм и впрямь станет всемирным Вавилоном — «жилищем бесов и прибежищем всякому нечистому духу» (Там же. 18, 2).
Г. Федотов был одним из немногих, если не сказать сильнее, кто верил, что западная демократия (и прежде всего его любимая Англия) выйдет победителем из кровавой борьбы с фашизмом и коммунизмом. Не все он угадал, но в этой вере его можно даже назвать пророком, нечего стесняться. И сегодня, когда проблемы, которыми мучилось христианское человечество две тысячи лет — голод и бедность, столь успешно решены и в еще болезнетворном организме европейской цивилизации уже пробудилась к деятельной жизни христианская совесть, главный вопрос социализма, что называется, вошел в повестку дня. Вместе с немыслимым для XIX века масштабом помощи бедствующим и слабым, вместе с бурным ростом благотворительности, с повышением фондов бескорыстных ценностей (науки, искусства, религии и т. п.), поднимающих уважение к самому строительству идеальных форм жизни, растет и, кажется, неудержимо прогрессирует разврат даровой жизни, бесовский разгул пошлого гедонизма и наркотических инспираций. Насколько для России (с ее умением жить в наркотической свободе и без благ социалистической цивилизации) это злободневно, мы уже говорили. Федотов, предчувствуя такой оборот жизненного круга, с редкой остротой ставил проблему церкви и культуры.
- Эту огромную у Федотова тему, исполненную риска и мужества, следует изучать прежде всего в его агиографических трудах 47. Но он не обошел ее и в истолковании современной духовной ситуации. При этом он исходил из того, что XX век по признакам надвигающейся катастрофичности вновь возвращает Церкви ее всемирно-историческую харизму спасения. И здесь встает поистине обжигающий вопрос: готова ли церковь услышать этот глухо нарастающий зов истории?
Федотов сравнивает христиански освященную жизнь с двойным ритмом дыхания: от мира к Церкви и от Церкви к миру; причем движение от Церкви не есть отрыв, рабство и плен, но творческое из нее исхождение, «отправление от Начала»48.
Мир стоит «не вне Церкви», и сколько бы он «ни отделялся», он ею охватывается, ею и спасается. В этом сотериологическом призвании Церковь эсхатологична, мировая же реальность исторична. И в борьбе бытия вечного с временным, священного со свободным есть передышка, «длительное перемирие», образующее быт: нейтральную зону культуры. Здесь все двоится и колеблется, и Федотов видит эту неустойчивость как острую опасность, исходящую из таинственной различенности ипостасей Сына и Святого Духа. Круг христианской свободы и творчества шире церковных
Стр. 158
институций, и невозможное по законам экклезиологии допустимо по законам пневматологии. Зная это, воинствующая церковь в упреждающей борьбе с лжедуховностью ограждает себя «стеной» устава, канона и закона, но при этом теряет силы для прямого культурного творчества. Разрыв между религией и свободой является, по Федотову, главной причиной того, что церковь выпустила из своих рук водительство культурой. И все ереси; вырастающие из этой разорванной основы, исходят из убеждения, что для торжества свободы нужно «раздавить гадину». Беда в том, что церковь, борясь с беззаконной свободой, часто цеплялась за остатки рабства и этим лишь углубляла разрыв: либерализм, за-бывая о своем христианском происхождении, искал свою генеалогию в античном язычестве или в неопаганизме Ренессанса 49. Церковь же, сталкиваясь с могучей и человечески доброй культурой, творимой «святыми, не верующими в Бога», отказалась признать в ней заблудших овец Христовых, «ужаснувшись хулы на Сына Человеческого, [она] впала в еще более тяжкую хулу на Духа Святого, Который дышит, где хочет, и говорит устами не только язычников, но и их ослиц» 50.
Итогом этого разрыва стала катастрофически разверзшаяся пропасть: «не только люди культуры не понимают святых, но и святые не понимают культуры» 51.
Конечно, Церковь не должна приспосабливаться к миру в надежде превратить культ в тотальное достояние культуры, в некую историческую необходимость. Именно на этих путях Церковь ждет порабощение миром и опошление им. Евхаристическая природа Церкви не совпадает с ее миссионерским, этическим и социальным призванием. Церковь Христа не есть нечто само по себе понятное и доступное; она есть тайна Тела и Крови Спасителя, проникновением в которую Церковь лишь углубляет тайну собственного существования, тайну «восьмого дня».
Присутствие Церкви в мире есть знамение последнего Суда над ним, и в этом смысле Церковь противоположна миру и даже ненавидима и гонима им. Но церковь есть Тело Христа, ломимое за грехи мира, наиреальнейший орган внутреннего собирания человека не по его тварной природе, а по усыновлению Богу, по таинственной способности идти дальше и выше того, что положено человеку исторической и природной обусловленностью. Чтобы быть одновременно н судом и соборной любовью для мира, Церковь должна внутренне распинаться, оставаясь хранительницей Таинств и не выпуская из рук водительство культурой. К несчастью, констатирует Федотов, историческая церковь не справляется с этим заданием, и Таинства Церкви перестают быть в мире живым укором и приговором культуре, эсхатологическим Свидетелем и свидетельством ее ограниченности и неполноты.
Лишь первые века жизни Церкви, почти совпавшие с деятельностью вселенских Соборов, отвечали ее эсхатологическому призванию, и не случайно, что два великих догмата, на разработку которых было положено почти целое тысячелетие, — догматы
Стр. 159
триадологии и христологии — были одновременно синтезирующим началом всей культуры. Однако то, что «осталось недоуясненным, завещанным будущему» в учении о Церкви, мире и человеке — экклезиология, космология и антропология, Церковь так и не сумела выполнить. «Патристический и соборный век закончился не за исчерпанностью богословских вопросов, а за исчерпанностью позднегреческой культуры» 52, насильственно прерванной гибелью Византии.
Кипучая работа схоластиков шла в отрыве от восточного православия и была существенно односторонней. Реформация, тщившаяся исправить эту односторонность, разрушала ее патристические основы. Русское богословие, долгое время бывшее в дремотном состоянии, мало-помалу «привыкло искать православие путем взаимного уравновешивания и дозировки католических и протестантских элементов» 53.
Лишь в XIX веке Русская Церковь проснулась от сна и стала на правах законной собственницы входить в наследие греко-византийской патристики. Из ее крупных достижений Федотов отмечает «Хомякова с его учением о соборности Церкви, Вл. Соловьева с его учением. о Богочеловечестве, Несмелова с его ,,Наукой о человеке», о. Флоренского с его сакраментальной экклезиологией и о. Булгакова с софийной космологией» 54.
Наше время, по убеждению Федотова, — время Церкви, только Она, «рожденная в воде и огне», способна избежать грядущего Суда, только она в этом смысле является живым субъектом знания и памяти конца мира. Слово и дело Церкви должны стать, следовательно, настоящей мессианской эсхатологией.
Есть ли у Церкви прямой путь к выполнению этой миссии и не является ли она носителем «последней» утопии?
Полнота реализующейся церковной святости есть исторический факт Пятидесятницы — начало церковного подвига апостолов христовой веры, которым окормлялась всякая плоть и утолялась всякая духовная жажда. В этот день началась новая жизнь человечества, всего Вавилонского многообразия, введенного в «шуме» и «смешении» языков в евхаристическую реальность нового Израиля. Вот почему именно это начало является для каждой духовной ситуации настоящим эсхатологическим индикатором, определяющим, кто мы, где мы, куда мы идем. Усталость и надсада, скепсис и неверие, нигилистическая понурость, религиозная стыдливость и т. п. — все это лишь исторические признаки Пятидесятницы, ее немощи во времени, показатели того, насколько историческое человечество «далеко» от эсхатологического.
Во всяком случае, такова диспозиция истинно христианской Церкви, способ ее предвосхищающего мышления и ориентирования в духовной ситуации эпохи. Вопрошая о человеке — кто он, что он может знать и на что надеяться? — Церковь является единственным в мире «субъектом» знания, способным погасить утопизм такого вопрошания силой внутренних ресурсов объективности: любовью к Богу и к ближнему.
Стр. 160
Но здесь существенно проводимое Федотовым разделение внутри заповеди любви к Богу и любви к ближнему. Это разделение, эсхатологически недействительное, исторически антиномично и даже трагично. Таков антиномизм Марии и Марфы, св. Симеона и св. Геновефы, преп. Нила Сорского и преп. Иосифа Волоцкого, аскетов и святых мирян и т. п. Но в этих расхождениях церковной любви есть соблазн безмерности, злой последовательности и слепого причастия, нередко чреватый срывом и расколом как для отдельного лица, так и для церкви и даже для целого народа. «Вот почему монахи Сирии и Египта, изумившие мир нечеловеческими подвигами, кончили тем, что в большинстве своем предали христианство как религию Богочеловечества. И не даром православный догмат на Халкидонском соборе имел своим самым твердым защитником папу Льна, представителя Западного христианства, не знавшего высот восточного созерцания, но взявшего на себя подвиг деятельной любви. (…) Только в широте и полноте вселенского опыта Церкви вся кривизна прямится, вся прямизна смыкается в круг» 55. Но любовь как эсхатологическая предпосылка теодицеи и антроподицеи остро выдвигает проблему оправдания культуры.
- Публикуемая статья Г. Федотова «Эсхатология и культура дает на запрос о смысле культуры свой ответ. Но к нему не покажутся лишними несколько дополнений.
Прежде всего подчеркнем, что Федотов различает cultura agri и cultura Dei, земную, темную глубину культуры как труда, возделывания, разработки и культуру как вдохновение, mania и гениальность. Различенность эта уходит в тайну неслиянности Лиц Логоса и Духа, знаменующую порядок и гармонию, а с другой стороны — свободу и порыв. Важная мысль для понимания философской позиции Федотова в кругу предшественников! Так, у Соловьева и Булгакова между Богом и человеком— космос, сияние славы, премудрость Божия — София; у Бердяева — царство Духа, свобода. Отсюда различия в смысловом определении культуры —в одном случае как сферы созерцания и благодарения, в другом —как области искания и творческого дерзания. Причем эти смысловые уклоны определяют собой не только призвание, но и задание культуры, а с ним и функциональные распределения предметного состава, средств и целей культурного созидания. Да и в эсхатологическом горизонте нетрудно заметить, что установка на благодарение больше родственна духовной реальности Отца и Сына, нежели реальности Творца и свободной твари.
Н. Бердяев исходит из того, что царство культуры радикально исторично; рост свободы и творчества разлагает такую культуру и приближает имманентный суд над ней, который тем суровей, чем упорнее культура цепляется за своих идолов. Эсхатологическим дерзанием культура взрывается изнутри и разносится по путям богочеловеческим и богозвериным. Но эта, как мы уже говорили, крипто-революционарность Бердяева, направленная против «тяжести» накопленных богатств культуры (традиции и авторитетов),
Стр. 161
движется по путям протестантского рационализма и опрощения и движется в сторону — почему не сказать? — церковно-обновленческой «реформации», в сторону от православного пути. С другой стороны, софианско-кенотическое направление (за которым прячется эволюционная парадигма науки) опасно утратой творческой свободы и вообще потерей ценности личности, составляющей главный нерв религии абсолютного личного воплощения Бога. Компромисс здесь невозможен, поскольку речь идет именно о предельном (крестном) и последнем («эсхатологическом») самоопределении, о выявлении mania культуры, ее гения.
Федотов находится, можно сказать, в эпицентре воспаленного противоречия: по характеру таланта и типу личности он, как уже подчеркивалось, конгениален Бердяеву, по предметной и аскетической принадлежности к культуре и творчеству он тесно стоит на линии Соловьева — Булгакова. Иногда кажется, что, решая это противоречие, Г. Федотов достигает универсального синтеза скорее за счет пластики мысли, нежели посредством выбора между риском личного испытания свободы и аскетическим самоограничением гнозиса. Это чувствуется не только в публикуемой статье. Но, может быты такой подход неизбежен для религиозной мысли, прагматически ориентированной, т. е., говоря традиционным церковным языком, трезворассудительной, не теряющей из вида, ради ясной смысловой перспективы, чудовищные трудности пути.
Главная мысль Федотова — в том, что «вся культура может быть понята кап иконопочитание» 56, причем не в порядке оцерковления, а как выражение автономии, в каковой отражается аскетическая выработанность творимых икон Богочеловеческой религии. Вот почему «в борьбе с идолами [культуры] мы должны воздерживаться от иконоборчества» 57.
Культура, согласно Федотову, хотя и не принадлежит к самым глубоким и высшим планам бытия, но она и не «срединное человеческое царство» (Бердяев), и ее теология телеологична, точнее говоря, она эсхатологична в своей катарсически апокалиптической функции как сера всеобщей защиты от бестиальности. «…Если труд и подвиг остаются на путях святости, неизбежна и культура на путях (. ё) Пока стоит природа, должна строиться культура. Иначе ангельская чистота святых непосредственно встречалась бы с бестиальностью грешников» 58.
Христианская истина объемлет собой все истины, но это не значит, что иерархия культуры есть эсхатологически законченный храм. Если церковно-презентативным «бытием» эсхатологии является Таинство, то у культуры таким бытием является стихия красоты. Вот почему культура столь двусмысленна и двулика и вот почему столь изменчивы и утопичны пути ее свободного развития. Об этом у Федотова есть прекрасные слова: «Конечно, культура вырастает из Эроса — из творческой радости об истине, о красоте. Но в эТи9еской сфере Эрос изменяет нам и нуждается в кенотическом восполнении. Впрочем, может быть, не только в
Стр. 162
восполнении. Эрос, сам себя опустошающий в жертвенном снисхождении — к миру и человеку — есть все же высший образ любви. <…> Вот почему, восстанавливая иерархический строй культуры, не будем думать, что этот строй есть уже строй Царствия Божия. Последнее слово мудрости — о собственном невежестве. Последнее слово земной красоты — в обезображенном крестной мукой Лице» 59. Так решается основное противоречие христианской культуры: однотемному, усыпляющему одноголосию монологизма и шумному и одуряющему многоголосию плюрализма она противопоставляет культуру контрапунктическую 60, построяемую на свободном исповедании и исполнении всех возможностей, но с памятью о муке Креста и грядущем торжестве Церкви. В этом — оправдание куль-туры и искупление ее гордого самодовления и свободы, ибо ничто не может отрезвить демонизм свободы, кроме памяти о ее же крестном пути: животворимом наследии совести, красоты, опыта зрячей и трезвой любви, всей той отеческой мудрости, доброты и святости, которые в качестве памяти являются имманентным предопределением (внутренним судом и приговором) презумпции свободы, понуждающим сыновей помнить об Отечестве и возвращаться из блуда самодостаточности — внимать, трезветь и благо-дарить 61. Однако культура не церковь; ее собственный предел, как мы уже говорили, экстатичен, и аскетическая способность ограничена. Духовная различенность «Марии и Марфы» предстает здесь во всей роковой обреченности антагонизма «Моцарта и Сальери», гения и труда, бескорыстия и пользы, права и привилегии и т. п. Изживая это противоречие изнутри, культура теряет телос, силу своей энтелехии, изнашивается и дряхлеет волей к творчеству, задыхается тяжестью цивилизаторских накоплений, уравнительной мощью технических средств, отравляется, наконец, вездесущей пошлостью.
Как оградить культуру от того, что Федотов называет «мировой ярмаркой» и «эсперанто» цивилизации? Какой силой восстановить ее «контрапунктический строй», не заражаясь при этом ницшеанским духом аристократизма, а с другой стороны — не впадая в нравственный фанатизм народничества («пусть нас секут! мужика секут же!»), а также отметая мессианский идиотизм Пролеткульта и живущий техническими ресурсами дешевый американский оптимизм?
Поистине, трудно найти для современной жизни задачу более насущную и злую. Решение этой задачи у Г. Федотова возлагается на плечи персонального и социального субъекта высшей ответственности за культуру: на гения, творца ценностей, и на тот слой «духовной аристократии» каковой в современном мире «способен… передвинуть центр интересов с вопросов техники к вопросам духа» 62, т. е. на интеллигенцию — понятие, которому Федотов в эсхатологической перспективе придает не национальный, а мировой статус.
Стр. 163
Рассматривая эти-субъекты, подчеркнем, что Федотов воспринимает искусство не как эстетическую ценность, а как зеркало религиозной судьбы человека, как предчувствие и предвозвещение его конца — «с Богом или без Бога» 63. И это потому, что искусство предполагает бытие более глубокое, чем оно само, и то, что представляется профанам и эстетам как каприз моды, стиля и т. п., на деле является борьбой за жизнь и смерть космоса. Художник «ловит на свою антенну» голоса из мира, ему самому неизвестного, и эта медиумическая чуткость искусства становится в эпоху распада духовной субстанции мира одним из самых сильных ядов разложения. «Искусство не отражает этой гибели, оно ее организует и вдохновляет» 64.
С этой точки зрения наиболее влиятельное направление искусства современности — реализм — есть эстетическая форма утраты цели, распада сплошности, наполненности бытия классической эпохи. Это стиль зоркого и правдивого, но отрывочного и частичного понимания действительности, метод «остраненного» восприятия мира, потерявшего Бога, мира, из которого выпала любовь как духовная реальность 65. Бессознательным протестом против этого онтологического урона жизни стало обновление ее через поэтику страха и страдания, жестокости и насилия. У искусства «закрылись глаза» на красоту мира и красоту человека, и по всем направлениям мир оказался исчерпанным, а человек — несуществующим. Жизнь уже держится не силой идеала, а силой косности, «спасительной некультурности» 66, которой пока еще живет человек, почему и кажется, что обыкновенные люди, с которыми м ы встречаемся ежедневно, бесконечно милее и привлекательнее тех, которые нам являются в передовом искусстве. Искусство не мертво, оно смертоносно — это и определяет трагедию художника.
Современный гений поистине распят на кресте творчества. Все, что может он сделать, так это с наибольшей силой и глубиной выразить свою тему: в этом заключается аскетическая верность призванию, этика гения. Но сам выбор стал самоубийством: тотальная деградация гуманистических основ показывает, что человечество уже живет внутри Апокалипсиса, что время для работы и для творчества прошло и художнику осталось лишь быть выразителем «темного полушария мира», ночи и ада бессознательного. Оставляя путь спасения за порогом искусства, приходится идти в «послушание» идеям и идеалам дешевой веры, без жара и вдохновения быть участником «инфляции ценностей», лишь усугубляя безвыходность всех дорог.
Федотов, следуя здесь по путям бердяевской метафизики творчества, ставит проблему огромной значимости: как обрести современному гению тождество призвания и задания, как воплотить и спасти дар? Подобно тому как реализм есть, согласно Федотову, эстетическая форма пантеистического спасения личности в бессмертии космического целого (отсюда величие реализма в изображении Смерти), так символизм является подлинно христианской эстетикой,
Стр. 164
религиозно неадекватной, но творчески единственно верной. Подлинность символизма в том, что задания его стиля совпадают с задачами миросозерцания, ибо изображение мира есть здесь его преображение и богопознание 67. В этом смысле исторические неудачи символизма суть лишь несоответствие творческого опыта религиозной правды (по преимуществу книжной, нежизненной) пророческому масштабу задания. Главное, что выявилось из этого опыта неудачи, повелительное требование беспредельной искренности выражения, настоящего исповедания, несущего в себе синтез художественной и личной аскезы, так сказать, невинность и чистоту откровения и экстаза. Гений символизма — это живой носитель новой интуиции, способной «усмотреть и назвать Бога, человека и мир» 68, ибо он свободен как от религиозного дидактизма, так и от эсхатологического фатализма, утверждающего, что время для работы и творчества прошло.
Художник должен быть готов испить свою гефсиманскую чашу одиночества и богооставленности, но надежда в том, что, чем глубже уходит гений в почву, тем духовнее труд и подвиг, а значит — ближе источник Света. «Как страшно одиночество Достоевского! <…> Но победы возможны. Только пути к ним ведут не через языческое подчинение стихиям жизни, как хочет внушить нам снова и снова органический (или революционный) консерватизм, а против потока, в преодолении инерции и тяжести земли. Под знаком креста» 69.
Тема интеллигенции, можно сказать, роковая для русской истории. Но у Федотова она интерпретирована так, что ее значение выходит за пределы национальной драмы и становится ключевой в понимании общей судьбы культуры. В своем очерке «Трагедия интеллигенции» — настоящем шедевре русской философской публицистики — Федотов видит смысл «общего дела» русской интеллигенции в европеизации России. Интеллигенция живет и мыслит, так сказать, в тени, отбрасываемой на Россию Западом, вот почему «идейность» и «беспочвенность» являются ее исчерпывающим определением 70. Отсюда и столь краткий срок ее жизни, смертоносный ритм ее поколений: она гибнет насильственным вытеснением новой идеей, новой системой. догм. Последняя ее трагедия — в 1917 году *.
По чеканной характеристике Федотова, «большевизм есть преодоление интеллигенции на путях революции» 71, истребление,
————-
* В работе «И есть и будет» Федотов показывает, что «неонтологичность» интеллигенции отразилась и на характере русского либерализма. «Русский либерализм долго питался не столько силами русской жизни, сколько впечатлениями заграничных поездок, поверхностным восторгом перед чудесами европейской цивилизации» (Федотов Г. П. И есть и будет: (Размышления о России и революции). Париж, 1932. С. 30). В силу этого он в конце концов принял пораженческий характер, превратился в прямую антинациональную позицию. «3а правительством и монархией объектом ненависти становилась уже сама Россия: русское государство, русская нация» (Там же). Так были запрограммированы возможности двух катастроф: одна состоялась, другая, кажется, ждет нас впереди.
Стр. 165
так сказать, метафизики «общей идеи» мифологией «общего труда».
Революция пронеслась: в крови утолена классовая злоба, народ вернулся к земле, труду и хозяйству, найдя свою почву. В его сознании на месте тысячелетних основ жизни образовалась пустота, или, что одно и то же, дух накопления, американизма, самодовольства. Он стал максимально беспочвен и максимально безыдеен. Тем самым вековое противостояние интеллигенции и народа закончилось: западничество становится народным, отрыв от национальной почвы — национальным фактом. Интеллигенция, уничтоженная революцией, потеряла всякий смысл, стала категорией умственного труда, простым продуктом системы образования 72.
Но это — только поверхность исторической трагедии. На самом деле, утверждает Федотов, в смерти интеллигенции таится зерно ее нового рождения, с новым отрывом от народа, с прямой переменой ролей: отныне поколение «святых, не верующих в Бога» нашло своего Бога и вместе с Ним — себя. «…Отныне религиозное и национальное сознание России может строиться только в работе этой новой церковной интеллигенции: не на этнографических пережитках, а на идее-символе» 73.
Символизм, таким образом, здесь, как и в художественной реальности, становится духовной субстанцией культуры, обретающей своего исторического субъекта. Но если от художника символизм требует предельной искренности, то интеллигенцию он понуждает к предельному синтезу слова и дела, к единству идеи и почвы, к целомудрию. «Это пока лишь задание, — провидчески возглашал Федотов, — но оно будет выполнено» 74.
Мы говорим «провидчески» не только по историческому свидетельству свершения нечаянного чуда — религиозного возрождения интеллигенции 70-90-х годов нашего столетия, но еще потому, что есть известные основания смотреть на это возрождение как на «европейское дело» России. Европа «чтит» в России не только огромную разрушительную силу, но и огромный созидательный потенциал. Если правда, что идейная интеллигенция может стать церковной интеллигенцией, то тем самым она исцеляет свой главный недуг — «беспочвенность» и выполняет сваю главную идейную задачу — «высветление» лица России, а значит, небывало раздвигает опыт полноты реализующейся Церкви в общехристианской культуре. Нечего и говорить, насколько это значительное «общее дело» …
Трагедией современной культуры является поистине лавиной нарастающая борьба имманентных рядов жизни против самого принципа формы — это есть распад культуры как таковой, как ценностного строи жизни. Нивелировка современного «общества потребления» достигла такого размаха, о каком не мог мечтать ни фашизм, ни коммунизм, Канна Аренд и другие западные мыслители давно заметили, что «банализация» духовных понятий (таких как добро — зло, совесть — бессовестность и т. п.) привела
Стр. 166
к почти полной атрофии смысла этих понятий, к выпадению их из языка «реальности». Мыслить положительно и творчески, не впадая в «кич», стало практически нелегкой задачей даже для интеллигенции. Происходит своеобразная стерилизация сознания и души, не способных оплодотвориться ни новой идеей, ни сильным чувством сострадания и жертвы. Жертвенность просто потеряла смысл вне себя, она выхолощена предметно и, как бы сказал Федотов, стала формой юродства. Изобилие материальных благ дематериализует действительность до такой степени, что ее качественная структура застревает в себе, задавленная количественными рядами и порядками жизни. В этой поистине сновидческой полубуддийской атмосфере распадается самый религиозный онтологизм, ценностный строй и связь сущего. Если и остается что-то от «старых добрых времен», так это ностальгия по иерархии ценностей. Ностальгия становится словно бы навязчивой; идеей «некогда христианской души», но это — именно ностальгия: тоска, обозначающая априорную невозможность.
Человек без личности и уже без лица (крах слабой надежды христианского культуролога Гвардини) — это отчетливо видел Федотов не только как опасность, но как наступившую реальность и содрогался.
Элитарная концепция Г. Федотова лишь по внешности напоминает морально-ценностные теории элиты 30-40-х годов (Парето, Тойнби, Ортеги-и-Гассета), отмеченные либо теократической идеей отношений господства и подчинения, либо (на линии Дюркгейма — Мангейма) выражающие функциональную идею «сбалансированной солидарности». Нет в ней и ницшеанского аристократизма, идущего от романтического противопоставления вдохновения и труда. Федотов ясно различал тенденцию возвращения людей науки и искусства к древним античным основам искусства ремесла – techne, ars 76, к высокому званию работника.
Элитарный взгляд Федотова на роль и призвание интеллигенции как будто противоречит и кенотическому «безумию» евангельской любви («раб не больше господина своего» (Иоан. 13, 16)), составляющей отличительную черту православной этики, глубоко проникшей даже в социальные отношения господства и подчинения. Кенозис, полагал Федотов, — один из главных фактов религии крестной жертвы, но не единственный, и «на нем нельзя строить ни политики, ни культуры» 76. В этом убедил горький опыт нашей истории, особенно опыт народнической жертвенности, бессознательно выросший на евангельском ферменте, но весь пропитанный заискивающим рессентиментом. Это означало на деле, что подозрительность народа к интеллигенции сгустилась в неуважение и нелюбовь к ней, что и составило изрядный капитал пореволюционного вандализма, открытого восстания на культуру нового хама и кощунника.
У Федотова интеллигенция вырисовывается как культурная категория, выполняющая свое духовное задание «вне церковной ограды», как «третий субъект», наряду со святым и гением.
Стр. 167
Отсюда требование для этого субъекта первого места в культуре. «Первое место интеллигенции предполагается иерархией ценностей в системе национального производства. Мысль, слово, форма и звук важнее, выше практических материальных вещей, ибо имеют более близкое отношение к цели культуры, к самому смыслу существования нации. Telos, конечная цель, определяет место каждого звена в системе иерархии. Место мыслителя и художника непосредственно вслед за святым и рядом со священником в нормальной иерархии. Но святость не принадлежит к иерархии социальной» 77.
Отсюда же, по проекту Федотова, необходимость восстановления дистанции в процессе воспитания: без «культурного неравенства», без разности потенциалов нет уважения, авторитета, напряженности восходящего движения к культуре 78. Мало сомнения в том, что современную «педагогику сотрудничества» Федотов воспринял бы в порядке прогрессирующей педократии — не сближение Учителя и ученика, а их взаимная нивелировка.
Отсюда и более широкое требование поставить творчество впереди просвещения, культуру — перед народом, а не народ перед культурой, Академию наук перед университетом, а университет перед школой. . . 79, словом, требование пересмотреть сам метод культурологии «снизу», материализм в теории культуры, несущий в себе ее смерть. По слову Федотова, земля ничего не производит, а семя падает сверху в ее лоно, и растение столь же дитя солнца, как и земли. Поэтому без восстановления «примата качества над количеством»: «воздуха и среды» культуры, ее духовного Этоса, которым «обтесывается юный варвар лучше всякой школы и книги», культура как организующая форма сознания распадается на множество бессвязных элементов, ни один из них сам по себе, ни даже их сумма не являются культурой 80. Культура не совокупность ценностей, а их строение, их иерархия.
Значительность этих мыслей Федотова не мешает видеть их явную неопределенность. Хотя Федотов не входит в рискованную проблематику отношений церковного клира и интеллигенции, по всему видно, что он целиком находится на линии бердяевской идеи «свободного богословия», которую он, так сказать, операционализирует как культурфилософ. Но он же кочет эту операционализацию завершить дедукцией Церкви. И здесь кенотизм и элитаризм вступают в когерентную связь, не решить которую — значит не решить ничего.
Можно было бы думать, что элитарная идея Федотова является порождением «подпольной психологии» сопротивления, рессентиментом духовного унижения и боли, но у Федотова, повторяем, эта идея культурологична. Он мыслит общность интеллигенции по типу «орденского самосознания», в духе «средневекового клира, организовывавшего свою латинскую культуру вокруг общезначимой и всенародной церкви» 81. Как идея повышения гражданской ответственности, общественного и интеллектуального подвига Церкви, проект Федотова заслуживает внимания, но как план
Стр. 168
«орденской» организации интеллигенции он заключает в себе момент обновленческой стратегии и чрезвычайно опасен.
Христианский кенозис — это схождение Бога на Землю. Встав на этот путь вместе с Христом, нельзя потерять достоинство и свободу, ибо это есть путь в духовную реальность Отца и Сына, а не Творца и твари. Поэтому не вполне понятно, что же мешает подлинной духовной силе (интеллигенции) войти в «ограду» этой реальности, в ее таинственные начала и концы, чтобы творить свою личность, свое бессмертие. Интеллигенция скажется здесь в том, насколько полно и глубоко эта личность оставила «попечение о своем», потеряла себя в языке и обычае и т. п. Но это и есть задание кенозиса, единственный творческий путь эсхатологически оправданной культуры.
В сущности, это вопрос о религиозной ответственности интеллигенции, который Федотов, не проясняя в аспекте эсхатологии, невольно задвигает в утопическую перспективу. В рамках классической антиномии свободы и предопределения этот вопрос возбуждает тему призвания и предызбрания. И здесь не избежать таинственного парадокса Апокалипсиса, выраженного в том, что Святой Дух обращает свою любовь к тем, кого наиболее строго судит: «Кого Я люблю, — возглашает Он, — тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся» (Отк. 3, 19) .
Мы не знаем и знать не можем, как осуществляется предызбрание Божьей любви, но понимаем, что чем теснее связь между судьей и подсудимым, тем полнее справедливость и милосердие, глубже благоразумие и покаяние «разбойника».
Суд Божий начинается с Дома Божия, с выявления неложного усыновления. Значит, он неизбежен там, где «престол сатаны» (Там же. 2, 13), где испытание веры и верности максимализированы как по силе господства зла, так и по силе свободы от него. Этим оправдано крестное страдание отдельного человека и целого народа. Ведь отдавая себя на смерть, Сын Человеческий развенчивает все виды космического господства, всю непроходимую бездну греха над миром и человеком и именно этим впервые утверждает свободу в качестве единой богочеловеческой реальности. Отныне самоизливающаяся из эсхатологических недр Троицы любовь Отца и Сына соприродна имманентному единству Отца и усыновленного Духом Иисуса. А это значит, что Сам Бог, открывая себя в Иисусе абсолютно, вместе с полнотой свободной любви заимствует у человечности Христа новый способ сосуществования внутрибожественного единства. И оно, это единство, требует теперь не только откровения, но постоянного обновления, «нового рождения свыше» в лоне той евхаристической свободы Духа, каковой утвердилось и постоянно утверждается Богочеловечество Христа, Церковь Божия и Народ Божий.
Такое понятие усыновления едва ли может быть названо элитарным, хотя оно несет характер избранничества, явственно выраженного в молитве Господа: «Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне» (Иоан. 17, 9).
Стр. 169
Это «элитаризм», что называется, Божьей селекции: не просто «узкого пути» и «тесных врат», но — Креста и жертвы, дабы мукой и болью безответной любви «вниде» Бог. Так и только так раздвигается в мире Божье «пространство» и в жизнь входит евхаристическая энергетика обновления и очищения: вина, совесть, покаяние; любовь.
Разумеется, во всем этом можно увидеть диалектику тождества «бытия и сознания» (в том гегелевско-соловьевском восприятии Бога как Логоса, которое с неизбежностью возвращает идею все-единства, так сказать, в лабиринт герменевтики), но в тайне евхаристической реальности этой диалектики как раз завершается всякая феноменология и вообще исчезает «зазор» между идеей и воплощением, составляющий непроглядную темноту мира, «причину» его боли и страдания. Какие же необходимы бесконечные смирение и жертвенная «чистота сердца», чтобы в этот зазор хлынул свет подлинной реальности, того неотчужденного духа, у которого нет и не может быть никакого имени, кроме растворенной любовью свободы! «Знать» эту реальность — значит иметь сверхтождественную надежду и веру, значит быть исполненным мужеством и решимостью в подвиге Креста и любви.
Конечно, в христианской вере этот подвиг остается рискованным и рискующим, ибо масштаб греха подлинно космичен. Но если в отношении Творца и твари подвиг веры несет в себе риск кенотического самоустранения в творении (буддизм) или гипнотического «возвращения» к Творцу (платонизм), то в отношении Отца и Сына и Святого Духа этот подвиг, по слову Апостола, буквальна «сверхнадежен», ибо «кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота; или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? <…> …Все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас» (Рим. 8, 35 и 37) *.
Такая жизнь духа, не ограниченная ни социальным, ни культурным, ни даже космическим кругом, выходит из психологического «пространства» с его фрейдистской механикой и садомазохистским гнозисом. Такая жизнь, говоря языком молитвы, «изъятая из всякой скверны плоти и духа»; не ищет славы и приветствует анонимность, т. е. в решающей степени принадлежит не настоящему (природе) и не будущему (идее), а «вечному» — той
____________
* Нужно сказать, что публицистическая форма дискурса у Федотова часто бывает ближе к истине, чем теоретическая. Так, в 1938 году, кошмарном для «остатка» русской интеллигенции, он писал: «Тот страшный пресс, который давит в России все живое,- он сплющивает в лист слабых,- т: е. почти всех. Но сильные, немногие, под этим давлением сохранившие дух, должны вырастать в святых и героев. И мы положительно знаем от надежных свидетелей, что герои и святые там есть» (Федотов Г. Письма о русской культуре: Завтрашний день//РиС. С. 114). Или в другом месте: «Их мало, этих избранников, но нельзя поверить, чтобы такая вера, такое горение не имели своего лучеиспускания. <…) …На них, неизвестных, с полным сознанием риска поставим свою ставку: ставку Паскаля, ставку веры,- ставку, без которой не для кого и незачем жить» (Федотов Г. П. Тяжба о России//ПСС. Т. 3. С. 312, 313). Несомненно, когда эта страница истории уяснится нам во всей сверхжизненной значительности, многое объяснится не только в безумных кошмарах ХХ века, но, может быть, и в «судьбе» России.
Стр. 170
сверхисторической реальности, которая, так сказать, виртуально есть и составляет параллель настоящему, правильнее сказать -его евхаристический момент, и по причастию к настоящему определяет его силу и полноту. В аспекте личности эта полнота олицетворена самой чистой человечностью во Христе Богоматерью Марией, и потому именно ее максимальной человечностью полагается критерий христианской интеллигенции. И всякая личность, в риске самоопределения испытывающая себя императивом усыновления «се, Матерь твоя!» (Иоан. 19, 27), одновременно исповедуется в полноте своей интеллигентности, своей евхаристической пригодности к служению добру, красоте и истине. Поэтому вопрос о «наблюдаемых» признаках предызбрания теряет почву. Это вопрос не научной парадигмы и не «орденской» институциализации, а, так сказать, таинственной простоты христианского ведения. Вне этой простоты человечность будет рано или поздно разорвана специализацией на обрывки частных лиц и интересов, и жизнь станет скрепляться имманентным духом пошлости и элементарной повседневности. Именно христианской человечностью разрывается герменевтический круг самодостаточности, и «имеющий уши» начинает слышать глас Вопиющего: «Знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв» (Окт. 3, 1). Это возвращает нас к тому, с чего мы начали — к живой эсхатологической диалектике суда и милости Божьей, выраженной в парадоксе: «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся» (Там же. 3, 19) .
VII. Наконец, нужно назвать у Г. Федотова эсхатологическую тему, отнесенную к судьбам родины. Но это у него не тема, а неотступная, ноющая рана и боль…
Есть искушение сказать, что Федотов любил Россию больше жизни, но этим можно все загубить. Ибо он любил ее в свете Христовой истины, и только такая любовь не ослепляет и не одурачивает: чтобы бесстрашно смотреть и видеть Любимое в последней инстанции суда и правды, нужно, чтобы любовь была зрячей, свободной от эротических токов и подмен нетрезвой и больной души и т. д. Такая любовь не «сублимирует» и не «вытесняет» страх постыдного, а беспощадно исповедует правду, относя ее и к грязи собственной личности, и к безобразию народной психеи, и к льстивым соблазнам «бесом радования» и духов злобы поднебесных». Словом, такая любовь невозможна, ибо она взыскует абсолютного исторического свершения на почве еще аскетически не подготовленной и мало благодатной… Да о какой любви можно говорить в пекле политического и бытового чада и хмари, в лютой памяти исторических грехов и в мстительных планах на завтра. «Пропади оно все пропадом» — вот язык нашего дня, дающий хоть какое-то удовлетворение душе, взыскующей «правды». И все же такая любовь по Божьей милости случается даже в годины сокрушений и катастроф, в окаянные дни отчаяния, ярости и злобы, только в такой любви много горечи и укоризны.
Стр. 171
…Вместе с Достоевским и Бердяевым Федотов разделял мысль об избыточной отнесенности русской истории к эсхатологическому «краю» бытия, об «эсхатологизме русской души». Эта черта — одновременно и Божий дар, и Божья нагруженность, и бремя, трудносносимые и трудновместимые, требующие напряжения и разворота всех сил, выносливости и высокого церковного ограждения; но вместе с тем эти дары и хмельные, и опьяняющие, и сбивающие с ног, влекущие к краю, к срыву, к душевному опустошению, самоистязанию и самоедству. Есть словно бы эсхатологический ритм в жизни этого дара и этого бремени: прилив огромных сил, уносящих с шальным пафосом свободы в миражи и утопии, в стихию бунта и перекройки мира, в гениальные прозрения и переживания новых чувств. А затем — отлив этих же огромных сил, которые не могут задержаться на культурных ступенях и оставляют после себя какое-то топкое болото чувств, душевную вывороченность, которой живет и даже как будто крепчает все та же самогонная и зевотная выносливость и пригодность к обитанию там, где уже, кажется, ничего не живет и не обитает.
Федотов, в отличие от Достоевского и Бердяева, был историк, и историк немалого колибра. Ему принадлежит несколько по-настоящему больших и самобытных идей о русской истории, из которых мы отметим три.
а) Первая в горизонте исторической драмы «русского духа» представляется жгуче актуальной. Мы имеем в виду историософскую интерпретацию Федотовым факта принятия христианства без принятия вместе с ним греческого языка и греческой культуры мысли. Федотов рассматривает этот факт как фундаментальный изъян всей национальной истории, как «судьбу России», которую можно побороть только эсхатологически, т. е. полнотой христианского смирения — терпения и надежды. Мысль эта, не бесспорная фактически 82, обладает, так сказать, громадным герменевтическим применением. Ведь речь идет о «языке» как «доме бытия», притом «языке» как Логосе, наиболее близком к самой логической структуре бытия. Понятно поэтому, что Федотов считает неразвитую культуру понятийного мышления (основное богатство греческой церковной мудрости) самым капитальным недостатком в строении «русского Дома». Все было, подчеркивает он, — и образец высокого подвижничества, и художественная гениальность, и могучая государственность, «о которую разбились враждебные волны и с Запада и с Востока. Одного не имела Русь: культуры мысли. В этой области она не пожелала учиться у греков, не подняла факел, брошенный погибшей Византией, и осталась в младенческой поре сознания» 83.
В результате, считает Федотов, всякий раз, когда Россия сталкивалась с «умом», она оказывалась безоружной и чаще всего отрекалась от своего и изменяла прошлому. Возник словно бы роковой круг: не скрепленные рациональными началами органические и эволюционные процессы жизни крепко держали жизнь в натуральных и природно-языческих порядках сущего; с другой
Стр. 172
стороны, вселенский характер «вершин» культуры, не спаянных глубокой традицией, «отпускал» мысль в фантазию и мечту, где она «брала последнее слово западной мудрости „на медный пятак»», «чтобы опустошить русские мозги, хотя и оставить нетронутой натуру». Отсюда — открытый, отзывчивый и внимающий, но вместе с тем «кочевой», нестойкий и переменчивый характер ума, падкого на чужое и нетвердого в своем. Нигилизм и отречение становятся характерологической чертой, и в крутых обстоятельствах отрицание носит тотальный и словно бы эсхатологический характер.
Ведь в суженном сознании растет деспотическая сила отрицания: отрицается начисто все, и в безудержном устремлении к «последней» и «окончательной» правде нигилизм набирает апокалиптический масштаб восприятия врага, предстоящего не иначе как «антихристом», «князем тьмы», «противником света», врагом на-рода, агентом «мировой» и прочей вселенской нечисти. И это для того, чтобы в борьбе с врагом либо одолеть, либо умереть. Третьего не дано, и даже в плен сдаваться нельзя, а надо покончить с собой. «В этом сказывается безудержность русской натуры, плохо воспитанной, не привыкшей к сложности жизни и не умеющей зараз держать в уме более одной мысли» 84. Отсюда — повальное упростительство, которое какой-то злокачественной опухолью разъедает жизнь, не успевающую в органических циклах набраться многообразия, здоровья и крепости и закрепиться на ступенях культуры.
Неверно полагать, что эта картина одинаково репрезентативна для всей русской истории, но в послепетровский период, усиливший «идейность» и «беспочвенность» культуры, такая картина есть почти паспорт исторического облика каждого нового поколения, и можно только позавидовать точности, с которой Федотов замечает, что «конечные идеалы приобрели у нас характер взрывчатых бомб» 85. В любом случае вместе с Федотовым можно сказать, что народ, в котором каждое поколение, давая выход застоявшимся и скованным витальным силам, начинает отрицать дело отцов, не может создать культуру как «общее дело» и «общий Дом» жизни.
б) В этой связи укажем еще на одну мысль Федотова, побочную, но весьма значительную. Кажется, именно он первый подметил, что духовная бездарность и бескрылость русской революции (как, впрочем, и контрреволюции, что также не прошло мимо него) были в значительной степени связаны с тем, что ее вожди и партии в борьбе за политическое господство беззастенчиво эксплуатировали упростительный навык и опыт народной психологии. Духовный потенциал русской революции был изжит задолго до 1917 года, еще в минувшем столетии, в век Герцена и Бакунина, в знаменитые годы богословско-человеческих чтений, революционно-романтических радений, гениальных проектов нового религиозного гуманизма и т. д. Даже марксизм, как правильно подметил Федотов, был творчески продуман и прочувствован именно русским
Стр. 173
сознанием еще в 90-е годы. Отсюда вывод таков: революция была уже вчерашним, «разогретым блюдом», запоздалым переводом «музыки революции» на язык политического делячества и уличного популизма — впрочем, это провидел Достоевский *. Брутальная ненависть Ленина к интеллигенции отчасти связана с этим рессентиментом — это ясно видно по его злобно-бессильным инвективам против «Вех».
Бескрылость и бездарность революции, повторяем, в том, что она, изжив творческий потенциал, оказалась собственницей лишь одного исторического «богатства»: демагогических фондов народной темноты и упростительства. Большевизм и есть форма политической монополии на эту собственность, притом монополии, которую он использовал «на все сто», доведя и свою собственную доктрину – неглупую экономическую теорию — до клинической вульгарности и пошлого доктринерства. Но, околпачив народ, выжав из него все, что можно, большевизм, в конце концов, про-валился в свою собственную яму: с точки зрения духовной репрезентации «ума, чести и совести» он оказался не просто лживым, а кровавым и грязным: «телом» голой партократической власти. Именно это определило его историческую капитуляцию. Вот почему необходим всенародный суд не над идеей большевизма (о чем здесь говорить — это мелкие идеи мелких людей!), а над его духом, являющим собой в буквальном смысле сатанинское проявление демагогии. Большевизм в мировом масштабе есть социальная манипуляция духом народного упростительства, духом, который оставил после себя самое ядовитое наследие: глубоко осевшие в народе темные осадки демагогии, бессовестный опыт и навык приспособления ко лжи.
Ложь есть предметная сфера наибольшего гнева и ярости Божьей, ибо сатана — «отец лжи». Не потому ли мы так страшно наказаны, что дали для лжи столько места в жизни, сделав ее. общезначимым методом выживания, успеха и благополучия. Ложь стала воздухом и средой культуры, генератором активности и жизнестойкости, самой сутью «нового человека»: теперь ему найдено жаргонное имя «совка». Этот «совок», т. е. все мы, и будет лежать на каждом пути нашего национального возрождения, пока
_____________
*Мы не затрагиваем вопрос в его исторической полноте, блестяще развернутой Федотовым в работе «И есть и будет». Там он показал, что на рубеже ХХ века в России возник целый слой «новой демократии», составившей впоследствии ударную силу «людей Октября». Этих людей Федотов назвал «экстернами» — целое сословие, «можно сказать, новый класс» самоучек, «сдававших на аттестат зрелости экстерном, проваливаясь из года в год… Это невероятная окрошка из философии, социологии, естествознания, физики, литературы… эсперанто, вегетарианства, гимнастики Мюллера» и т. п. Обладая нередко огромной начитанностью, эти люди были, как правило, не в ладах с грамматикой и с ошибками говорили по-русски. Именно это сословие «новой демократии» начало строить «новый быт, идеологию пролеткультуры», именно оно стало «оформлять» бездарность и бескрылость революционных задач и целей во «всемирноисторическую необходимость и целесообразность» (см. об этом с. 46-68).
Стр. 174
не осознается со всей допустимой исповедальностью, что «самый страшный враг культуры в России, — по словам Федотова, не фанатизм, а тьма, и даже не просто тьма, а тьма, мнящая себя просвещением, суеверие цивилизации, поднявшее руку на культуру» 86. Когда видишь, как вчерашний преподаватель «истмата» сегодня уже читает курс «софиологии», а вчерашний актер берет портфель министра, невольно думаешь: да, эту черту и это свойство русская «птица тройка», погоняемая Селифаном, видимо, пронесет до Страшного Суда.
в) Конечно, большевизм, интернациональный по первоначальной идее, стал «русским» не фатально; он, как замечает Федотов, не мог обрусеть до конца, «и вовсе не было написано в книге судеб, чтобы Россия должна была свалиться именно в эту яму» 87. Важно понять, что «яма» была и в нее Россия могла свалиться, идя совсем другой дорогой. Ее ведущими знаками Федотов называет национальную мегаломанию и мессианизм, которые к тому времени имели более длинную бороду, «чем борода Карла, взметнувшаяся над взвихренной Россией».
Решаемся сказать, что по многосторонней глубине анализа этой темы Федотов не имеет соперников. Может быть, это — его главная тема, и о ней следует говорить отдельно. Здесь выделим наш аспект, который, впрочем, не потребует громоздкой контаминации текстов, так ярко и целостно выражена эта тема в культурологии Федотова.
Кажется, именно ему принадлежит гипотеза о том, что не греческая и не латинская, а русская церковь впервые раскрыла смысл национальной идеи в христианстве. Рим и Византия жили исключительно сознанием вселенским, национальная же идея, исконно языческая по происхождению, получила христианское крещение именно на Руси. Великая вера в то, что евангельская человечность должна быть реализована не только в духе, но и в полноте исторической жизни, и ввела национальную плоть и национальный дух в самые недра Царства Божьего. Это и есть идея Богочеловечества, лишь в новое время получившая теоретическую и философскую чеканку. Из нее пошли в русскую жизнь и «святые миряне», и «святые князья», и, наконец, сама «Святая Русь» — реально-эсхатологическая география Божьей земли. Так родилось новое и воистину великое слово, с которым православная церковь вошла в «общее дело» мирового христианства. Может быть, это слово потому и не умело воплотиться в догмат и в понятие, что было самой жизнью по воле Божьей. Во всяком случае, Федотов возглашает: «После всех колебаний, преодолевая все соблазны национальной гордости, решаемся сказать, что в древнерусской святости евангельский образ Христа сияет ярче, чем где бы то ни было в истории» 88. Непростые слова и сказаны не кем-нибудь — пионером современной агиографии, строгим выучеником школы Ключевского.
Но русская православная святость была добыта верой, подвигом веры, как благодатный дар Бога, милость Его и поцелуй ответной
Стр. 175
любви. А далее мы читаем у Федотова, что Византия, погибая как империя, оставила Москве в наследие свою вселенскую идею в ее слитности с конкретным государством. Именно это вселенское сознание государственного призвания «Москва — Третий Рим» и срезало древнерусское евангельское чувство жизни. «Поколение Филофея, гордое даровым, не заработанным наследием Византии, подменило идею русской Церкви („святой Руси») идеей православного царства. Оно задушило ростки свободной мистической жизни (традиции преп. Сергия — Нила Сорского) и на крови и обломках (опричнина) Старой, свободной Руси построило могучее восточное царство… » 89 Божье наказание не стало ждать: вера в полноту реализующейся Церковью святости земной жизни была подорвана, и свет любви Христовой затмился и померк, став целью несбыточных исканий и странничества, а с другой стороны — средством мессианских страстей и вожделений.
Что такое Москва и московский человек как субъект национального мессианизма и мегаломании?
Федотов подчеркивает, что «собирательница» земли русской Москва обязана своим возвышением татарофильской, льстивой и предательской политике первых князей, политике, которая во имя государственного «общего дела» пожертвовала древними основами христианского общежития. Итак, татарская стихия, овладевшая душой России не извне, а изнутри 90,- вот Москва, как се интерпретирует Федотов. Само это «собирательство» при ближайшем рассмотрении предстает как первая копия сталинских перетасовок целых народов, культур и традиций. Именно с этого времени удельные русские земли стали катастрофически терять свой православный образ и колорит. Произошло московско-татарское поглощение святой Руси, на месте которой возникла тоталитарная власть «православного ханства»: тяжелая смесь христианских и восточных обрядов и понятий, религии священной материи и степного быта — икон, мощей, святой воды, ладана, просвир и куличей. Тяжесть — категория сама по себе нейтральная — вскоре заслонила светлые «начала феодальной юности» и внесла в московский тип жизни антихристианские черты: требовательный и морализованный ритуализм, беспощадность к падшим и раздавленным, жестокость к ослабевшим и провинившимся. Но главное то, что свобода как высшая ценность религии Богочеловека стала тотально отрицательным понятием, синонимом распущенности, ненаказанности и безобразия. «Московский» идеал свободы — воля, т. е. свобода без ответственности за нее. Отсюда «культ пустыни, дикой природы, кочевого быта, цыганщины, вина, разгула, самозабвения страсти — разбойничества, бунта и тирании» 91. В таком духовном этосе выковался и окреп «московский тип» человека -исторически самый выносливый, самый сильный и устойчивый и вместе с тем самый упрощенный мировоззрением из всех образцов русского национального лица. Свободу он не любил искренне и глубоко и лишь в стихии периодического бунта мстил своим
Стр. 176
притеснителям, чтобы затем, перебесившись и «выгнав черта» в диком разгуле, вернуться покорно в свою тюрьму.
Этот тип (для многих, как подчеркивает Федотов, он кажется даже символом русскости) пережил расцвет русского европеизма, первые победы либерализма и великие порывы русского идеализма и к 1917 году принес, помимо верности своему укладу, две обостренные эмоции — жгучую ненависть ко всем инородцам — евреям, полякам, немцам и т. п. — и не менее жгучую ненависть к интеллигенции, ко всему «западному» и вообще «ко всему средостению между царем и народом», каковое символизировалось Петербургом 92.
Федотов спустя сорок лет и словно продолжая голоса «Вех» пишет, что вся перспектива революционного периода была «опасным бегом на скорость: что упредит — освободительная европеизация или московский бунт, который затопит и смоет молодую свободу волной народного гнева» 93.
Читатель, конечно, услышит этот опасный топот ног в тревоге наших дней, поэтому мы приведем фрагмент полностью: «Читая Блока, мы чувствуем, что России грозит не революция просто, а революция черносотенная. Здесь, на пороге катастрофы, стоит вглядеться в эту последнюю, антилиберальную реакцию Москвы, которая сама себя назвала по-московски Черной Сотней. В свое время недооценили это политическое образование, из-за варварства и дикости ее идеологии и политических средств. В нем собрано было самое дикое и некультурное в старой России, но ведь с ним было связано большинство епископата. Его благословлял Иоанн Кронштадтский, и царь Николай II доверял ему больше, чем своим министрам. Наконец, есть основание полагать, что его идеи победили в ходе русской революции, и что, пожалуй, оно переживет нас всех» 94.
Да, спустя еще почти полстолетия с тех пор, как были написаны эти слова, мы можем назвать их провидческими и повторить: «есть такое основание»… И не потому только, что в русской революции «победил не Ленин и не Бакунин, боровшиеся друг с другом первые годы, а Иван Грозный. Сталин и есть перевод его на современность» 95. И не потому также, что московский тип «тоталитарного человека» в готовности перенести весь комплекс врожденных монархических чувств на любую враждебную свободе силу давно «оприходован» и «инвентаризован» партократией и службой госбезопасности (тут и тратиться не надо на анкету и выборку — сами идут!), как вполне подготовленный и обученный опричник.
Самое опасное то, что этот тип продолжает благословлять и по обряду и по любви «Иоанн Кронштадтский».
…Когда смотришь на измученные, изношенные и милые лица простых людей, кажется — нет, «это» не должно пройти. Несчастья еще будет много, но беды не случится. Для форсированного от хода народа от хрупких ценностей свободы в голую ненависть нужна сила, хотя бы и ненавидящая. Но сил уже нет, их съели
Стр. 177
опыт горя, память зла и изнуряющий молох быта *. Однако, когда видишь разгул педократической вольницы, этой гуляющей витальной силы с ее пафосом «кровянки», вполне допускаешь возможность ее слияния с кряжистой поэтикой «тоталитарной московской целины». Ведь они друг к другу относятся как брутальная форма к языческому содержанию и еще могут составить «гремучую смесь» нового бесовства. Это хотя и большой, но все же не «эсхатологический» вопрос, скорее — задача воспитания, восстановления атмосферы культурной среды, в основном же дело душевной упорядоченности проклятого «семейного вопроса».
Самое опасное, повторяем, благословение! Оно и раньше, как подмечал Бердяев, доходило до «любования собственным черносотенным радикализмом», а теперь, когда истребилась русская интеллигенция, стесняться в мире стало некого…
Вот это и есть опасность эсхатологической глубины. И нам кажется, что гибель о. Александра Меня является знаком и знамением: Господь взял невинной жертвой для обнаружения нового качества лжи священника нового церковного облика. Эта ложь проистекает, как всегда, вначале из полулжи, из подмены понятий на самой глубине христианской истины, где ей — истине — заранее указано место в национальном стане. «Справедливо, — писал Федотов, — что интернационализм, понимаемый как механический сплав потерявших свой духовный облик народов, противен персоналистической природе христианства. Но столь же справедливо, что национализм, восставший против вселенского единства во имя обособленного единства частей, не имеет ничего общего с христианской идеей человечества. Если отрицать, то надо отрицать оба начала — интернационализм и национализм одинаково, утверждая одновременно народность и вселенскость»96. «Нет более распространенного недоразумения среди нас, — возглашал он в другом месте,- как смешение „православного» и „русского». Православное это вселенское, это для всех. Русское — только для нас. <…> Сколько обманов и самообманов на этом пути. Одни видят Россию в монастыре, другие в орде Чингисхана, третьи в Петербурге последних Романовых. Нужно бояться дешевых лозунгов и узких точек зрения. Россия и то, и это, и многое другое. Но, становясь тем и другим, она совершила множество исторических грехов, изменила своему служению, как всякий народ. И нужно отличать измену от правого подвига, хотя и в измене и в падении сказываются национальные, близкие нам черты Рос-СИИ» 97.
И по поводу народности: «…когда от святости избранных совершаем переход к религиозности масс, — всегда следует остерегаться
* Следует помнить, что настоящий масштаб катастрофы возможен только на огромной высоте культуры. Именно такую высоту набрала русская культура к ХХ веку и особенно в первые десятилетия накануне краха — подлинного Ренессанса всех сторон русской жизни, в том числе и свободы. Но на творческое закрепление свободы не хватило тогда национального терпения, дисциплины и государственного мужества.
Стр. 178
поспешных отождествлений. Русские святые — не русский народ. Во многом святые являются прямым отрицанием мира, то есть жизни народа, к которому они принадлежат. Идеализация русской жизни была бы извращенным выводом из сияния ее святости. Даже основное направление русского мирянского благочестия не совпадает с духом русской святости» 98.
Культурный фон, на котором «маятник» русской мысли пошел в обратном направлении, это фон тоталитаризма, неприятия, непонимания и нелюбви свободы. Ничего удивительного: свобода не принадлежит к имманентным порядкам сущего, она является всецело добычей духовной жизни, даром Святого Духа. Где же ей взяться и быть: Россия знала эту свободу слишком мало, чтобы помнить ее плоды и ее великие и страшные искушения. Ведь что такое советский человек, обвыкший в главных линиях борьбы за жизнь, но получивший сейчас возможность поднять глаза к небу? Без больших поправок на пятьдесят лет срока нижеследующих строк, согласимся с Федотовым, что этот человек «очень крепок физически и душевно, очень целен и прост, живет по указке и по заданию, не любит думать и сомневаться, ценит практический опыт и знания. Он предан власти, которая подняла его из грязи и сделала ответственным хозяином над жизнью сограждан. Он очень честолюбив и довольно черств к страданиям ближнего — необходимое условие советской карьеры. Но он готов заморить себя за работой, и его высшее честолюбие — отдать свою жизнь за коллектив: партию или родину, смотря по временам. Не узнаем ли мы во всем этом служилого человека XVI века?» 99.
Благославлять ли этого крепкого инстинктами рабства типа со всей мутью и слепотой его души, неготовой к покаянию, — вопрос не только педагогический, но евхаристический. Мы не знаем, почему духоносный владыка Иоанн Кронштадтский его благословил, быть может, по тем безумным годам опасность открыто святотатской революции была страшнее, а ему — виднее, но теперь, когда эта опасность прошла тяжелой тучей мимо и вновь открылся и засиял дивный свет непокоримой Церкви Христовой… — трудно и, кажется, невозможно такое понять. Но в предчувствии этой опасности Федотов напоминал, что «открытый бунт — не последнее зло: хуже предательство изнутри. Атеизм все-таки честнее корыстной эксплуатации имени Божия. В порядке адской иерархии национализму выпала эта горшая судьба… Безбожная суть остается. Возрастает лишь соблазн для слабых духом, увлекаемых видимостью благочестия и мнимым традиционализмом на пути и тропинки, запретные для христианина» 100.
Не в первый уже раз, но, пожалуй, никогда еще в столь докучном и заношенном виде не стоял старинный вопрос, сформулированный Федотовым в альтернативе: православный нигилизм или православная культура? Да, видно русская докука и впрямь — скука, а миновать нельзя.
Торжество национально-государственных задач над внутренней свободной религиозностью, а социально-охранительных функций —
Стр. 179
над творческими является, увы, лейтмотивом русской истории. Что этот разлад тяжелым магнитом отклоняет и искажает подлинно нравственный облик жизни и все строение культуры — исторически вполне ясно. Но настоящее несчастье заключается не в том, что этот разлад есть (он есть всюду по глубине и силе греха), а в том, что эсхатологически слепая, крепкая инстинктами рабства и этикой лжесыновнего иждивения душа требует полной и окончательной победы одного, полной и окончательной гибели другого. Вот почему далеко наперед уже задана скучная, как ванька-встанька, маята этого старинного разлада между государством и обществом *, между церковным благочестием и свободным богословием, высоким «статусом» духа и элементарной порядочностью, между образованием и профессиональной пригодностью; разлад между зевотной демагогией отцов и немытой, почти уже инопланетной эстетикой сынов, «возвращающихся» лишь для того, чтобы «сбацать» и «побалдеть» на отчем пепелище. Этому разладу нет счета, и, повторяем, он является губительным для человеческих параметров культуры своей неуемной антиномичностью, упрямой однонаправленностью и недиалогичностью, в каждом своем фрагменте унижающими и истребляющими свободу. И уже искалеченная и затоптанная в грязь, эта свобода не может быть опознана в своем христианском лице как самоизливающаяся Любовь Отца и Сына, как вечная эсхатологическая сущность Божьей реальности, впервые раскрытая для человека Воплощением и Воскресением Христа.
Сугубое несчастье в том, что если раньше этот разлад держался на плаву жизни известным общим уважением к будущему культуры, еще не отравленной до смерти ни народническим, ни коммунистическим, ни технологическим ядом, то теперь, ввиду кислых перспектив всяких доктринальных оформлений «конечных» пара метров культуры, единой субстанцией старинного разлада с наглостью все более хозяйственной и крепкой заявляет о себе пошлость. Раздвинулся вообще масштаб ее одноглазой власти, и под формой и личиной вещей и понятий она мало-помалу становится их содержанием и составом. Дух пошлости поистине уже носится над всем массивом культуры, испытывая ее на полный разрыв с великим прошлым, и уже примиряет на себя даже церковь и ее строгий и суровый устав. Поистине нельзя так долго терзать и мучить страну, она перестает рождать чувствующих людей, она теряет вкус к простоте и святости жизни.
Но унывать не дано, запрещено и заказано самой природой христианской эсхатологии. Ведь сказать, что на такой почти запредельно изгаженной и оскудевшей почве культуры спасение
______________
* Тяжкий обвал императорской России и был, по словам Федотова, следствием этого «самоубийственного разлада силы и духа» в монархическом государстве; что уж говорить об империи партократии, сплошь построенной на силе и лжедуховности.
Стр. 180
требует настоящего духовного обновления, — значит «тыкать пальцем в небо». Сама глубина вырождения содержит в себе зерно возрождения. Нужно только обрести христианскую эсхатологию любви — терпение и надежду, чтобы пройти самый темный путь зерна, путь смертельный, без Креста не проходимый.
Никогда, может быть, во всю историю России процесс настоящего углубления духовной жизни, обнажения ее онтологических пластов не шел так стремительно и всенародно, как сейчас. Пошлостью исчерпана прежняя жизнь почти до дна, а значит, ничего не остается, как: либо пропасть, либо одуматься. Решаемся сказать: возвращение к здоровому призванию не через гордость и ущемленное национальное самолюбие, а через трезвое самоотрицание, зрячий отказ не только в мысли, но и в воле от пагубных пристрастии и привычек, бредовых идей и мифов обретает сегодня вполне религиозный характер. В этом реальная надежда и ее креативные и харизматические залоги, но в этом новые и страшные искушения и соблазны.
Именно потому, что перестройка жизни проходит стремительно и всенародно на старых «сваях» демагогии и упростительства, она вносит в религиозную глубину «общего дела» рабовладельческую энергетику большевизма п- дух припадочной ненависти, ярости и вандализма. Этот дух не меняет на религиозной глубине натуру народа и нации, но на поверхности политических страстей он становится инспиратором нетерпения и одержимости, настоящей добычей «духов злобы поднебесных». Бес есть ангел неустройства, небытия. Излетая из одного разлада, скажем, между государством и обществом, он неизбежно уже в другом — между обществом и нацией, и в третьем — между народом: и интеллигенцией, и в четвертом — между наивностью и яростыо толпы… Множится и тиражируется лишь одно — дух злобы и одержимости, то «бесом радование», которое составляет единственное содержание демонической свободы и, по совести сказать, остается основным итогом осатанелой стихии гласности. В религиозно слабом и безответственном мире, который хочет зараз и окончательно обновиться, иначе и не бывает (это пророчески открыл и исследовал еще век назад Достоевский) — и наперед программируется реальность страшной беды.
Конечно, ритмы мировой катастрофы нарастают повсюду, токи ее чувствуются не только в истории и культуре, но и в природе: на глазах развязываются ее софийные «узлы и узоры». Но Россия, крипто-эсхатологические навыки которой в мундире СССР только возросли, становится особенно опасной. Стремительное разложение огромного тела ее империи, обнажение позорной нищеты на-рода, его крупно обрисовавшееся заспанное, спившееся, траченое беспутством и бесправием лицо, взрывы национального сепаратизма, в садомазохистских осколках которых уже бушуют изуверство и уголовщина, — все это (а сколько еще другого!) может стать настоящим катализатором страшного конца. Не заразив мир коммунизмом, разложившаяся империя может заразить его
Стр. 181
милитаризованным вандализмом, дать планете вместо «пламенного» большевистского слова холодный продукт всей его «апокалиптической» монополии на будущее планеты — ядерными боеголовками, которыми нашпигована наша изуродованная и загаженная земля.
Надо отдать должное Федотову: в отличие от многих больших и глубоких русских людей, он избегал утопических парадигм и оставался пусть в травмирующем и жестоком, но реальном мире вещей. Он предвидел не только крах империи, но угадывал «вероятность взрыва всех подспудных, революционных и центробежных сил», неизбежность реализации большинством наций «своего политического права на отделение», видел возможность гражданской войны «приблизительно равных половин бывшей России»… Но при этом он не верил в долгую жизнь новой тирании: «Не может государство, существующее террором на половине своей территории, обеспечить свободу для другой. Как при московских царях самодержавие было ценой, уплаченной за экспансию, так фашизм является единственным строем, способным продлить существование каторжной Империи» 101.
Крах империи есть не только нравственное очищение, но «освобождение русской культуры от страшного бремени, искажающего ее духовный облик» 102. Вот почему условием преодоления разлада. между «силой и духом» является полная национальная, этническая и региональная свобода, мудрое возвращение государства и общества к «феодальным началам его юности» 103. Однако минимализация государства и его функций должна повлечь за собой решительное усиление международных институтов власти, «ограничение суверенитета национально-социалистического государства — сверку международным принудительным союзом, снизу -федеративными и автономно-групповыми образованиями…» 104 Необходимость этих мер Федотов трактовал не столько даже требованиями безопасности и патронирования, сколько предчувствием «возрождения в мире абсолютного, то есть религиозного начала, которое могло бы ограничить, обуздать и исправить все относи-тельные — праведные и неправедные — притязания государства» 105. Вот почему вместе с преодолением разлада между «силой и духом» он постулировал преодоление разлада между «почвой и духом», усматривая в нем лишь видоизмененное рабство. Конечно, есть единство национального естества и национального лица, единство крови и духа, но это единство без поглощения. В поглощении свет христианской истины меркнет в национальной плоти и благодать подменяется мистической экзальтацией и фольклорно-бытовым исповедничеством. Отделение почвы от духа возвращает церкви чистоту греческого и византийского богословия, очищает плоть для православного боговидения и богомыслия и таким образом — только таким! — обрисовывается Божий замы-сел о национальном лице. Это не экуменизм, а эсхатологизм, в свете которого «ангелы семи церквей» (Отк. 1, 20) готовятся дать окончательный ответ Святому Духу о себе. Ибо Сын Божий
Стр. 182
говорит: только то, что имеете, держите, пока приду» (Отк. 2, 25).
В 1948 году, словно бы А. Солженицын в 1990-м, Федотов писал: «Ныне, когда после революционного полета в неизвестность Россия возвращается на свои исторические колеи, ее прошлое, более чем это казалось вчера, чревато будущим» 106. Как это соблазнительно и опасно сказано!
История как будто и впрямь вернулась в старую колею, в знакомую диспозицию, и по всему фронту древних неудач и забытых упований оживила тревожную проблематику исторической судьбы, а с него, как водится, и трубадуров эсхатологической диалектики. Вот уж поистине — упаси и помилуй Бог!
Что Запад впервые в истории сумел справиться с социальными и национальными проблемами жизни и вступает в новую полосу культурного развития, может быть и расцвета, — это, кажется, чувствует и видит самая натасканная на противоречиях капитализма марксистская ищейка. Впрочем, коммуно-фашизм и был тем конкретным опытом насилия и зла, внутреннее преодоление которого составило главное творческое содержание европейской цивилизации ХХ века. (О том, что Запад одолел фашизм и коммунизм и во внешней схватке, говорить не стоит. И это не должно умалять русский военный подвиг.) Свобода, действительно, оказалась практичнее принуждения и насилия, и экспериментальная проверка апорий Великого Инквизитора, насколько можно судить «эмпирически», подошла к концу. Огромная, мучительная и славная победа всего человечества — вот что означает этот конец по гуманистическому счету. Но всматриваясь в его итоги пристальнее, нельзя не заметить, что во всей парадигме европейской свободы, несущей столь богатые плоды, сохраняется и виртуально растет не весь состав исторического «тела» христианской культуры, а его земные, имманентно оскудевшие и потому неизбежно количественные ряды и порядки жизни. В этом модусе свободы, иными словами, чахнет и разрушается духовная иерархия ценностей, сам мистический строй бытия. Техника поистине становится конечной судьбой культуры, а либерализм — конечной судьбой свободы как таковой. И в этом завершении Запад, если мы не ошибаемся, превращается в теплокладное общество, неспособное уже услышать этот жуткий эсхатологический возглас Духа: «носишь имя, будто жив, но ты мертв» (Там же. 3, 1) . Увы, все жизненное пространство — нет, все «бытие»! — уже цепко схвачено прогрессирующей специализацией знания, изобретения и овеществления, и все силы духа уходят на сохранение и безграничное расширение витального желания и запроса плоти, на сакрализацию потребительской мечты, цветение быта, обновление магии ком-форта. Говоря языком «сильной версии», это значит, что сил на восхождение в евхаристическую реальность, свет и радость которой включают забвение и даже нелюбовь к миру, этих сил нет по коренным основаниям цивилизации, они становятся «дефициентным» модусом технизированного бытия как сплошного телеологического
Стр. 183
проекта, как полного тождества cogito и sum*. Впереди — глубокая религиозная трагедия, может быть, самая глубокая после веков схизма. Вот это предчувствие и предвосхищение кризиса возвращает охмуревшему в спячке «русскому» духу все, так сказать, тотемы его племенной мифологии и «богословия», весь антиисторический бред его утопий и мессианскую спесь.
Здесь Федотов отрезвляет, как никто. Конечно, свобода вне презумпции христианского смысла, особенно в своей буржуазной парадигме, довольно паскудная вещь, и для России с ее обостренной этикой этатизма и коллективизма она не раз обернется своим блудливым и жульническим боком, не раз отзовется болью и травмой в народной психее, надолго, если не навсегда, отдавшей предпочтение порядку перед свободой и равенству перед довольством и богатством. Но свобода есть тот наджизненный фермент, которым человек только и может превзойти самого себя и тем поднять жизнь на высоту христианского смысла. И никуда не деться от того, что «лишь христианский Запад выработал в своем трагическом средневековье этот идеал и осуществил его в последние столетия. Только в общении с Западом Россия времен Империи заразилась этим идеалом и стала перестраивать свою жизнь в согласии с ним. Отсюда как будто следует, что если тоталитарный труп может быть воскрешен к свободе, то живой воды придется опять искать на Западе» 107.
«Меркантильный дух» не новость для России, о нем и его пошлой повсюдности говорил еще Пушкин. Но этот «дух» сдерживался у нас и ничтожностью третьего сословия, и всевластным культурным универсализмом, и общественным ригоризмом, и политическим утопизмом… Но, как правильно заметил Федотов, «нельзя делать из хозяйства лишь прикладную сферу этических упражнений… <…> Как общечеловеческое решение социального вопроса — это сплошной провал» 108. рано или поздно культура за это расплачивается обострением гражданских и национальных конфликтов, нагноением псевдоэсхатологических страстей и идей, искажением человеческого лица культуры. Россия много моложе Европы по историческому бытию, и если можно сказать, что она что-то выстрадала, так это свою принадлежность к европейской культуре.
Этим она прославилась в мире, этим и должна возглавить новую жизнь страны, но на этот раз стать собирательницей «земель» не предательской политикой, а гениальной способностью русского народа к сосуществованию с другими
* Уточним хотя бы эскизно, что вся биосфера, подчиняясь целям человеческого знания и технического проекта, становится ens reale новым целостным организмом («ноосферой»), притом столь рискованного и хрупкого состояния, что человек вынужден взять под контроль тотально все степени своей свободы. Парадокс в том, что этот процесс не только «задвигает» первичное бытие свободы в технический конструкт ума, но и продвигает жизнь и волга к жизни навстречу почве и опыту ранней христианской церкви, возвращая нам ее огненный эсхатологизм. Западная мысль уже вдумывается в это чудо с присущей ей критической остротой и основательностью, и об этом не следует забывать.
Стр. 184
нациями и свободным строительством православной культуры, для чего у нас есть самый ценный строительный материал — небывалый в мире опыт Креста, страдания и зла, — говоря словами Федотова, «бесценным опытом ведения ада».
ХХ век показал, что опыт бесчеловечности и жестокости превалирует несомненно над опытом человечности и любви. Эту страшную правду нелегко понять в умственном круге гуманистических представлений, она дается — притом одолевая пессимизм -только христианскому эсхатологическому сознанию. Запад усвоил эту правду лишь в той мере, которая определялась гипотетической формой бытия Бога, т. е. в идее ценности жизни, в понятии общезначимости личных свобод. Вот почему он ответил на эту правду свободой научного исследования, политикой и этикой сосуществования. Именно в этих, так сказать, кванторах «общего дела» эсхатология любви могла выразиться фактически и реально, хотя формально и индивидуалистически. И мы это хорошо чувствуем и видим в методологии плюрализма, в идее терпимости и компромисса, которыми западная версия надежды и веры строила жизнь. Во всяком случае, каждый, кто ответственно продумал человеческую ситуацию ХХ века, не станет с этим спорить. Но если эта так, тогда несомненно и то, что Россия, сбросив с себя идеологическую осатанелость, внесет (и уже внесла) в западную культуру новые залоги доверия и надежды, и тем фактически расширит бытийное пространство для христианской любви, которой и спасется мир.
Но Россия может воспользоваться редким историческим шансом, чтобы избежать горький опыт Запада, религиозно обездушенного насильственным техногенным процессом, измученного тотальной релятивизацией жизни и тотальной симуляцией ее смысла. Она может — и да будет разрешено в этом увидеть ее каритативное преимущество — без имперских и цивилизаторских комплексов строить свою культуру, опираясь на онтологически первичные, простые и ясные начала «феодальной юности». В со-временном мире ничто не препятствует ей быть во всеоружии знания и изобретения и при этом твердо держаться этоса крестьянского труда, софийной мудрости и красоты земли, приспосабливая и привлекая к этой ее исконной «телеологии» и промышленную специализацию, и социальные связи, и рыночную конкуренцию, и школу, всю вообще культуру, исцеляя ее от «блуда демократии» и пошлости «массового человека» прикосновением «к земле, к органической, хозяйственно-духовной почве народной жизни» IО9 Это не движение вспять, ибо отпала теократическая мегаломания, но и не бег вдогонку задыхающегося от непосильных задач участника «прогресса». Это тот редкий случай внутреннего смирения (вхождения в свою собственную меру), духом которого актуализируется не прошлое и не будущее, а настоящее, притом в его единственно творческой силе — конкретного причастия Христу, тесного сближения исторического и эсхатологического планов сущего. Г. Федотов этому плану жизни дает категорическую формулу:
Стр. 185
«Работай так, как будто история никогда не кончится, и в то же время так, как если бы она кончилась сегодня» 110.
Весь вопрос: хватит ли сил для смирения, не пойдет ли «мрачность» и «детскость» русского духа по кровавому пути вражды свободы и порядка? Русский критицизм и русский догматизм, повторяем, не задерживаются на ступенях скептицизма, а низвергаются в крайний пессимизм и нигилизм. На беду, историческое бремя неустройств и неудач сообщает этой черте почти уже особенность характера и нрава. Остается верить и надеяться, остается молиться и, несмотря ни на что, любить.
Для чего-то ведь дал Господь России и ее неоглядные черноземы, и ее несметные богатства, и головокружительную, нигде уже невозможную, красоту ее песни, чарующие женские начала русского дома, уюта, для чего-то Он пронес сквозь все несчастья, разрывы и измены христолюбивый настрой и наклон души! Невозможно думать, что это все сгинет окончательно, так и не пройдя «темный путь зерна».
Вхождение в духовное наследство не принадлежит ни естественному, ни историческому праву — оно всецело есть достояние «нищего духа». Вот эсхатологический билет на вход в Царство Божие! А ведь нищета духа свидетельствует, главным образом, о негордом сердце и принадлежит к самым дорогим чертам русского характера и русского храма. Эти черты, видит Бог, не исчезли, не умерли в прошлом, и есть много неложных оснований считать, что им принадлежит будущее… Но это отдает уже липкой риторикой, так соблазнительной для «среднерусской» мечтательной и летучей, но инертной и бездеятельной души. Лучше сказать словами Федотова: «До тех пор, пока народ в России ведет полуголодное существование, лишен самых насущных вещей -одежды, бани, лекарств, бумаги, я не знаю еще чего — только снобы могут отфыркиваться от экономики. Сейчас цивилизация самая низменная, техническая — имеет в России каритативное, христианское значение» 111. Нарочно не станем уточнять, когда это сказано, чтобы подчеркнуть, что это для нас, только для нас.
И вместе с Федотовым будем верить, «что из всех блужданий и блуда, освобожденная от семи бесов, Россия, как Магдалина,. вернется к ногам навсегда возлюбленного ею Христа» 112.
ЛИТЕРАТУРА:
- Аксенов Меерсон М. Предисловие//Федотов Г. Россия и свобода: (Сб.. ст.)/Под ред. свящ. М. Аксенова Меерсона. Нью-Йорк, 1981. С. 6, 7. (Далее: Рис.)
- Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 746-747.
- О цели христианской жизни: Беседы преп. Серафима Саровского с Н. А. Мотовиловым. Сергиев Посад, 1914. С. 16-22.
- Цит. по: Лосский Вл. Очерки мистического богословия Восточной Церкви//Богосл. тр. Вып. 8. М., 1971. С. 121.
- Бердяев Н. А. Русская идея//Вопр. философии. 1990. М 2. С. 111.
- Федотов Г. П. Об антихристовом добре//Федотов Г. П. Полн. собр. ст.: В 6 т. Т. 1: Лицо России: Ст., 1918-1930. 2-е изд. Париж, 1988. С. 44. (Далее: псс.)
- Там же. С. 45, 46.
Стр. 186
- Федоров Н. Ф. Соч. М., 1982. С. 528.
- Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1982. С. 326.
- Там же.
- См., напр.: Бердяев Н. А. Самопознание: (Опыт филос. автобиографии). Париж, 1949: С. 32.
- Бердяев Н. А. Опыт эсхатологической метафизики. Париж, 1947. С. 219.
- Бердяев Н. А. Самопознание. G. 326.
- Булгаков С. Н. Философский смысл троичности//Вопр. философии. 1989. Ns 12. С. 95.
- См., напр.: Бердяев Н. А. Самопознание. С. 329.
- См.: Булгаков С. Н. Православие: Очерки учения Православной Церкви. Париж, 1965. С. 370; Он же. Свет невечерний: Созерцание и умозрение. М., 1917. С. 408; Он же. Невеста Агнца: О Богочеловечестве: В 3 ч. Ч. 3. Париж, 1945. С. 587.
- См.: Федотов Г. П. О Св. Духе в природе и культуре//ПСС. Т. 2: Рос-сия, Европа и мы: Ст., 1930-1932. Париж, 1973.
- Федотов Г. П. О смерти, культуре и числах»//Там же. Т. 1. С. 326.
- Федотов Г. Письма о русской культуре: Русский человек//РиС. С. 97.
- Федотов Г. Письма _ о русской культуре: Завтрашний день//Там же. С. 111.
- Федотов Г. Запад и СССР//Там же. С. 227.
- Федотов Г. П. Ессе Ното//Федотов Г. П. Новый град: Сб. ст./Под ред. Ю. П. Иваска. Ныю-Иорк, 1952. С. 352.
- Там же.
- Федотов Г. П. Саттоеп saeculare//ПСС. Т. 1. G. 210.
- Федотов Г. Рождение свободы//РиС. С. 265.
- Федотов Г. Л. Восстание масс и свобода//ПСС. Т. 4: Защита России: Ст. 1936-1940 из Новой России». Париж, 1988. С. 83.
- Федотов Г. Л. Carmen saeculare//Там же. Т. 1. С. 204.
- Федотов Г. Письма о русской культуре: Завтрашний день//РиС. С. 113.
- Федотов Г. П. Основы христианской демократии//ПСС. Т. 3: Тяжба о России: (Ст., 1933-1936). Париж, 1988. С. 144.
- Там же.
- Федотов Г. Народ и власть//РиС. С. 170.
- Там же. С. 164.
- Федотов Г. Л. Новый идол//ПСС. Т. 3. С. 184.
- Федотов Г. П. Правда побежденных//Там же. С. 78.
- См.: Федотов Г. П. Тяжба о России//Там же. С. 293.
- Федотов Г. Народ и власть//РиС. С. 173.
- Федотов Г. П. Наша демократия//ПСС. Т. 3. С. 160.
- См.: Федотов Г. П. О демократии формальной и реальной//Там же. Т. 4. С. 36.
- Федотов Г. П. Основы христианской демократии//Там же. С. 145.
- Там же. С. 144.
- Там же. С. 145.
- Федотов Г. П. Ответ Н. А. Бердяеву//Там же. С. 120.
- Там же. С. 120-121.
- Там же. С. 122.
- Федотов Г. Л. Письма о социализме//Там же. Т. 4. С. 309.
- См.: Там же. G. 310.
- Речь идет, прежде всего, о трудах: Федотов Г. П. Святой Филипп Митрополит Московский. Париж, 1928; Он же. Святые Древней Руси. М., 1990, а также агиографических очерках и статьях, представленных в 1-м томе ПСС.
- См.: Федотов Г. П. Изучение России//ПСС. Т. 1. С. 255.
- См.: Федотов Г. Рождение свободы//РиС. С. 266.
- Федотов Г. Л. Об антихристовом добре//ПСС. Т. 1. С. 43.
- Федотов Г. П. О Св. Духе в природе и культуре//Там же. Т. 2. С. 227.
- Федотов Г. П. К современным богословским спорам//Там же. Т. 3. С. 174.
- Там же. С. 176.
Стр. 187
- Там же. С. 177.
- Федотов Г. П. Св. Геневефа и св. Симеон Столпник//Там же. Т. 1. С. 196.
- Федотов Г. Л. Ответ Н. А. Бердяеву//Там же. Т. 3. С. 120.
- Там же.
- Федотов Г. П. О Св. Духе в природе и культуре//Там же: Т. 2. С. 223.
- Федотов Г. Письма о русской культуре: Создание элиты//РиС: С. 135.
- См.: Федотов Г. Письма о русской культуре: Завтрашний день//Там же. С. 115.
- См.: Там же. См. также: ‘ Он же. Борьба за искусство//ПСС. Т. 3. С. 242.
- Федотов Г. Письма о русской культуре: Создание элиты//РиС. С: 121.
- Федотов Г. Л. Борьба за искусство//ПСС. Т. 3. С. 242.
- Федотов Г. П. Четверодневный Лазарь//Там- же. С. 316.
- См.: Федотов Г, П. Борьба за искусство//Там же. С. 242..
- Федотов Г. П. Четверодневный Лазарь//Там же. С. 317.
- См.: Федотов Г. П. Борьба за искусство//Там же. С. 253.
- Там же. С. 258.
- Федотов Г. Письма о русской культуре: Завтрашний день//РиС. С. 113.
- См.: Федотов Г. П. Трагедия интеллигенции//ПСС. Т. 1. С. 77.
- Там же. С. 116.
- См.: Там же. С. 119.
- Там же. С. 120.
- Там же. С. 121.
- См.: Федотов Г. Письма о русской культуре: Создание элиты//РиС. С. 130-131.
- Там же. С. 134,
- Федотов Г. Письма
- См.: Там же. С. 124.
- См.: Там же.
- См.: Там же. С. 118.
- Там же. С. 130.
- См., напр., возражения о. Георгия Флоровского в его книге «Пути русского богословия» (гл. «Кризис русского византизма»).
- Федотов Г. Л. Православный нигилизм или православная культура?// ПСС. Т. 2. С. 11-12.
- Там же. С. 10.
- Федотов Г. Народ и власть//РиС. С. 166.
- Федотов Г. П. И есть и будет. С. 119.
- Федотов Г. Народ и власть//РиС. С. 164.
- Федотов Г. П. Святые Древней Руси. С. 236.
- Федотов Г. П. О национальном покаянии//ПСС. Т. 3. С. 95.
- См.: Федотов Г. Россия и свобода//РиС. С. 179.
- Там же. С. 183.
- См.: Там же. С. 193.
- Там же. С. 192—193,
- Там же. С. 193.
- Федотов Г. Письма о русской культуре: Завтрашний день//РиС. С. 103..
- Федотов Г. П. Новый идол//ПСС. Т. 3. С. 196.
- Федотов Г. П. Национальное и вселенское//Там же. Т. 1. С. 266.
- Федотов Г. П. Святые Древней Руси. С. 237.
- Федотов Г. Россия и свобода//РиС. С. 196.
- Федотов Г. П. Трагедия древнерусской святости//Федотов Г. П. Певец. империи и свободы. Нью-Йорк, 1989. С. 125. Ср.: «…Та ярость, та одержимость злобой, которые сегодня направлены на построение классового и безбожного Интернационала, завтра будут направлены на созидание национальной и православной России. (…) А черная человеческая душа останется такой же, как была: нет, станет еще чернее…» .(Федотов Г. Л. О национальном покаянии// ПСС. Т. 3. С. 94).
Стр. 188
- Федотов Г. Судьба империи//РиС. С. 218.
- Там же. С. 219.
- Федотов Г. Рождение свободы//Там же. С. 273.
- Там же.
- Там же.
- Федотов Г. Россия и свобода//Там же. С. 175.
- Там же. С. 197.
- Федотов Г. П. Ответ Н. А. Бердяеву//ПСС. Т. 3. С. 121.
- Федотов Г. П. О демократии формальной и реальной//Там же. Т. 4. С. 36.
- Федотов Г. П. Эсхатология и культура//Новый град. С. 326. (См. также в паст. сб. с. 219.)
- Федотов Г. Письма о русской культуре: Завтрашний день//РиС. С. 111.
- Федотов Г. П. О национальном покаянии//ПСС. Т. 3. С. 96.
