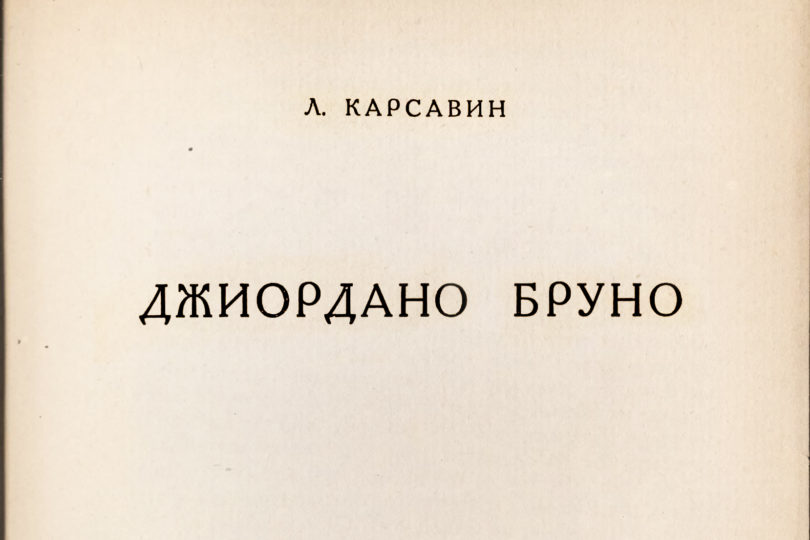Мы продолжаем публикацию книги Льва Карсавина «Джиордано Бруно», которая увидела свет в Берлине в издательстве «Обелиск». Нумерация страниц соответствует первому изданию 1923 года. Текст к публикации подготовлен Владимиром Шароновым
Лев КАРСАВИН. ДЖИОРДАНО БРУНО
БЕРЛИН
ОБЕЛИСК
1923
Л. Карсавин. Джиордано Бруно (1923). Глава I
Л. Карсавин. Джиордано Бруно (1923). Глава II
Л. Карсавин. Джиордано Бруно (1923). Глава III
Л. Карсавин. Джиордано Бруно (1923). Глава IV
Глава II
СХОЛАСТИКА,
НИКОЛАЙ КУЗАНСКИЙ и БРУНО
Стр. 97
11. Средневековая философия, которая, по меткому выражению ее историка, «пала по недостатку людей, а не идей», и теперь на наших глазах возрождается не только в католическом нео-томизме, но и в некоторых новейших философских учениях, представляет собой одну из самых глубоких и величавых попытoк синтезирующей мысли. Так называемые схоластики стремились дать стройную систему единого знания, охватывающего все доступное человеческому чувству и человеческому уму и построенного на абсолютной истине, почему философия для лучших из них и была служанкою богословия. Схоластика opгaнически связана с платонизмом», точнее — с ново-платонизмом, языком и терминами которого выражены основные христианские догмы, досказывающие почуянное, но не высказанное эллинской и эллинизирующей мыслью. Будем, по совету Бруно, смотреть своими, глазами. — Аристотель провозглашен Средневековьем князем философии. Это, конечно, не миф, но — некоторое недоразумение. Прежде всего, неправильно обычное доныне резкое противопоставление Аристотеля Платону, забывающее о том, что первый все-таки ученик второго и что общее в их системах, как это давно уже показано новоплатонниками, значительнее преувеличиваемых полемикой различий. Аристотель меньше философ и больше ученый-эмпирик: отношение его к идеальному и конкретному обратно отношению к ним Пла-
Стр. 98
тона. Впрочем, надо ли повторять уже ходячую мысль? Переходя к судьбам аристотелизма в Средние Века, не следует забывать, что для ранней схоластики, определившей основные темы Средневековья, Аристотель важен только своей логикой, к тому же ограниченной чисто формальными заданиями. Руководителей философской мысли он становится только в XIII веке. И предстает он Западу ранее всего в одеянии той же новоплатоновской метафизики — в изложении и с комментариями арабских метафизиков. Когда же, благодаря главным образом, Фоме Аквинскому, появляется более чистый аристотелизм, и Фома и прочие схоластики воспринимают его в свете христианской системы, т.е. опять таки (условно говоря) новоплатонизируют. Аристотель не в силах вытеснить новоплагоновца Августина, единственного подлинного отца Западной Церкви; метафизика Стагирита бесплодна на высотах умозрения о Боге, падении и спасении мира в человеке, благодати и первородном грехе. Платоновское, т. е. единственно-подлинное, философствование не умирает ни в томизме, ни вне его. И чем сильнее аристотелизируется собственно философия, тем глубже чистый платонизм уходит в мистику, касаясь бездн апофатического богословия и омутов пантеизма,
Аристотель приходит вовремя. Платоновская богословски-философская мысль, всегда напряженно устремленная в высь, к сверхъумному созерцанию, в каждом явлении открывающая Абсолютное и погружающаяся в упоенность им, по существу своему чужда конкретности; недисциплинированная, живая вдохновением, она бессильна проникнуть в глубину индивидуальности и не тяготеет к многоцветной конкретности мира, кажущейся ей акцидентальным бытием. Но уже в XII веке перед взорами средневекового человека начинает развертываться этот конкретный мир, раскрываясь и в развитии самопознания. Он влечет к себе в слагающихся формах новой общественности и новой государственности, в бесконечно усложняющейся жизни, в быте, праве, искусстве. Благодаря
Стр. 99
особенностям духа Запада встает настоятельная необходимость осмыслить в ее конкретно-индивидуальных проявлениях и преломлениях самое религиозность, выйти за пределы общих принципов системы и дать рациональную ее обработку. И вот с помощью Аристотеля и на почве его идей вырастает стройное учение о рациональном познании, невольно противопоставляемом мистическому, «умному» созерцанию: завершается до мелочей разработанная система логики. Ею справедливо гордится схоластика, в увлечении своем нередко теряющая чувство меры. Освоив и дополнив «Органон», философская мысль с помощью этого орудия принимается за изучение мира: она строит рациональную систему положительного богословия, натурфилософии, этики, политики, экономики; сетью хитроумных силлогизмов пытается охватить все знаемое, стремится открыть, дедуцировать еще неведомое. Схоластика верит в разум, верит до того, что забывает о созерцающем уме, пытаясь и его подчинить категориям разумности. С другой стороны, та же вера в разум, сочетаясь с новоплатоновскими основоположениями, в частности — с реализмом, хотя у большинства крупных схоластиков и у признанного главы их Аквината и умеренным, определяет некоторый уклон схоластики к панлогизму, ее убеждение в том, что реальность конкретная выводима из общих положений. Увлекаясь дедукцией, схоластики пренебрегают опытом: и мистическим и чувственным, во всяком случае, недооценивают второго.
Идея единой истины незаметно подменяется идеей единой рациональной истины, Р а м о н Л у л л (Раймунд Луллий, 1235—1315), «доктор озареннейший» (doctor illuminatissimus) убежден в совершенной и полной разумности истин христианства. Он не может допустить, будто существует нечто превышающее разум, недоступное и недоказуемое. Поэтому для Луллия неприемлема уже распространявшаяся аверроистская теория двойной истины. Но если все разумно, все рационально-доказуемо, истины христианства вплоть до учения о Тро-
Стр. 100
ице должны быть выводимыми из разума и принципиально возможно найти универсальный метод для доказательства всех истин и опровержения всех заблуждений. Этот метод и есть «великое искусство», «ars magna», «ars universalis», которое, в конце концов, сводится к чисто-механическому комбинированию ряда концентрических кругов с разнесенными внутри каждаго по особым «камерам» основными понятиями — категориями сущего. Аргументация и даже нахождение новой истины оказывается весьма простым делом — вращением кружков и фиксированием получающихся комбинаций понятий в суждения. Нетрудно говорить о наивности и механистичности «великого искусства», но не следует упускать из виду лежащие в основе его идеи.
Мученик, но непризнанный святой, плодовитый писатель, но не крупный философ, Луллий в некотором отношении характернее для основных тенденций схоластики, чем Фома Аквинский. Наивностью своих кружков он расплачивается за первородный се грех — за фетишизм разума. Сама она расплачивалась за него непоследовательностью и разложением. Еще Роджер Бэкон (ум. ок. 1293 г.), и тонкостью ума и талантом наблюдателя несравнимо превосходивший своего современного Ноланцу однофамильца и соотечественника, настаивал, что «все надлежит доказывать путем опыта». Опыт же бывает двояким: внутренним или мистико-умозрительным и внешним или чувственным и, частью, экспериментaльным. Признавая лишь единую истину и считая, что философия сама по себе, вне своей настоящей задачи — объяснять Божественное — «бесполезна», Бэкон энергично выдвигает значение опыта, «viam experientae», который один лишь дает достоверное знание. Он изобретает и совершенствует оптические инструменты, пытается приложить геометрию к физике. Он отстаивает значение конкретного и индивидуального и, уверенный в единстве раскрывающегося во всех религиях и философских системах знания, восстает против слепого доверия к дедукции, уже увлекающей схоластиков. Отсюда его отрицательное отношение к вере в
Стр. 101
Аристотеля. «Если бы дали мне в распоряжение книги Аристотеля, я бы всех их сжег». Правда, Бэкон главным образом имеет в виду искажающие учение Стагирита плохие переводы.
12. Голос Бэкона звучит предостережением Кассандры, обращенным к современным ему течениям схоластики, предостережением бесполезным, а, может быть, ненужным и потому, что ее тенденции должны были раскрыться и исчерпать себя. Это было необходимою предпосылкою и для того, чтобы смутная еще интуиция Бэкона могла обнаружить истинное свое содержание. Схоластика, как уже указано выше, уходила в область рационального знания, замыкаясь в нем и отграничиваясь как сверху — от познания интеллектуально-мистического, так и снизу — от познания естественно-опытного. Первое отграничение проводило определенную черту между тем, что недоступно разуму и может быть дано лишь откровением, и областью рационально-достоверного. Ф о м а А к в и н с к и й (1227—1274) отделил откровенную веру от философии, а для того, чтобы избегнуть допущения двух истин, попытался спасти истину единую путем остроумной координации знания и веры. Он подчинил в ряде основных вопросов первое второй. Это означало подчинение вере самого разума, низведение служанки-философии на положение рабы и принципиально от теории двойной истины все-таки не спасало, ибо сама координация философии и религии покоилась на постулированном положении, что истины веры, хотя и сверхразумны, не противоразумны, не иррациональны. Рано или поздно внутреннее противоречие системы должно было обнаружиться, тем более, что учение Фомы, по существу своему, глубоко рационально, выше всего поставляя не акт воли, а «чистый акт» разума, «actus purus» Снизу, со стороны чувственного опыта Аквинат, по-видимому, рационального знания не отграничивал. Напротив, он утверждал: «нет ничего в разуме, чего бы ранее не было в ощущении», «nihil est in intellectu, quod antea nоn fuerit in sensu». Однако,
Стр. 102
и здесь сказывается исконный рационализм системы. Для Фомы познаваемое тожественно с познаваемым рационально, т. е. с познаваемым в качестве общего понятия, формы или идеи. Истинность вещи не что иное, как согласие ее с вечной идеей, которая создает в вещи ее форму и отвлекается разумом, как общее, от множества чувственно-единичных вещей. Но благодаря такому пониманию делается неуловимым реально-текучее, т. е. в конце концов, индивидуально-конкретное.
Действительно, на чем покоится индивидуальное бытие вещи или — в чем принцип индивидуации, «principium individuа-tionis»? Во всяком относительном существе (ens), отвечает Аквинат, следует различать, во-первых бытие, (esse) и «то, чем вещь, есть» (quo est) или акт (actus) и, во-вторых, сущность, бытийность (essentia) или «то, что такое вещь» (quod est), или потенцию. В вещах материальных первое есть форма, второе — материя. Созданная Богом из ничего, «первая материя» в соединении с первыми формами образует вторые или особенные материи, например, — элементы или стихии, а они уже приемлют дальнейшие формы. При этом может быть два случая. — Или материи хватает лишь на одну форму: тогда получается одно неделимое (индивидуум), например — солнце, или же форма соединяется с частями приемлющей ее материи: тогда получается множество однородных индивидуумов. Таким образом принципом индивидуации и индивидуальности является количественность и количество (quantitas) материи или пространственно-временная ее определенность — «materia signata per hiс et nunc». Ho в этом случае, собственно говоря, никакого объяснения для индивидуальности вещи не дается: все вещи данного рода определяются одной формой. Если же так, то не только необъяснимо индивидуально-конкретное бытие, но не объяснима иначе, как указанием на «это тело, эти кости», индивидуальность Сократа: она должна исчезнуть с разложением тела. Фоме остается предположить, что в людях — «материальными вещами» настолько он не дорожит — есть еще «нечто приемлемое определен-
Стр. 103
ной материей» или «чтотость» (quidditas). Что же такое эта «чтотость»? — Если обратиться к нематериальным сущностям (например — ангелам), то в них материи нет и «esse (= «quo est» = «actus») противостоит «essentia» (— «quod est» = «potentia» — «natura»). Вторая (essentia) и есть их «чтотость» или «qudditas». Но нематериальная тварь приемлет свое бытие («esse» = «quo est») от Бога, «эссенцию» же или «чтотость» непонятным образом получает из себя или из ничего. Разумеется, это нельзя признать удовлетворительным объяснением: «чтотость» ангелов не мотивирована больше, чем «чтотость» чисто материальной вещи. Если же так, то чем обоснована и «quidditas» или «а materia signata recеptum» в человеке?
В мире чисто духовном и в мире чисто материальном для Фомы существуют лишь роды. Каждый ангел является родом (genus) и всем своим родом. Каждая вещь целиком выражает свой род, механически размножаемый материей. Но мы вправе во втором случае говорить о невнимании к бесконечному многообразию вещей: чтобы обосновать его придется признать столько же родов, сколько существует индивидуальных вещей (ведь каждая от другой отлична), т. е. уничтожить само понятие рода. — Абстрагирующая мысль, живая в сфере общих понятий, не охватывает индивидуально-конкретного. В первом же случае мы с полным основанием можем спросить: почему Фома допускает много родов духовных субстанций, а не один только род? Ведь «quidditas», появляясь из ничто или из самой сущности, должна быть ничто, поскольку она отлична от даруемого Богом бытия, от «esse» или «quo est». Можно пойти еще дальше и спросить: почему существует хоть один род? Фома ответит указанием на то, что в тварном бытии должно быть различие, не присущее Богу, между актом и потенцией, между «quo est» и «quod est». Но такой ответ, равно, как и общее утверждение, что бесконечная полнота Божества могла выразиться лишь во множестве относительного и сотворенная Богом из ничто первая материя тоже лишь во множестве могла осуществить
Стр. 104
свои потенции, указывают на мотив индивидуации, но не на принцип ее. В чем состоит индивидуальность понять невозможно. Точно также, в последнем счете, оказывается неоправданным конкретно-индивидуальное бытие Сократа, самого Фомы, всякого человека.
В проблеме индивидуации есть связь со спорами ранней схоластики о реальности общих понятий, но все же она является новой проблемой. И если Аквинат не может ее разрешить, для него несомненно, что общее дано не отдельно, а в индивидуально-множественном. Только понятие индивидуального невольно сливается с понятием множественного и в существе своем остается необъясненным.
Неразрешимость проблемы индивидуального на почве томизма и является свидетельством оторванности в нем рационального познания от эмпирии, в разумность целиком не укладывающейся. И то же самое самоограничение разумностью сказывается в физике Альберта Великого или в политике пренебрегающего физикой (что уже само по себе характерно) Фомы. Аквинат подходит к миру не с конкретной, а с абстрактной, не с опытной, а с дедуктивной стороны. Он систематик, строящий сверху, выводящий частное из общею. Несмотря на весь свой перипатетизм, он чужд эмпирическому духу Аристотеля. Повторяя ход мыслей великого эллина, Фома дедуцирует, а не изучает реальность, говоря словами Телезио — «выдумывает свой мир вместо Божьего». Охватывая мир в целом и принципах, его мысль не склонна, уже несколько позитивистическая, к исканиям умозрительной мистики, и, еще платоновская, к эмпирической науке. А между тем, многообразный, волнами врывающийся в сознание мир и опознание этого мира в развивающемся индивидуальном самосознании властно требовали приближения схоластики к реальности. И оно совершалось, освобождая философию от подчинения положительному догматическому богословию, с одной стороны, и — в саморазложении рационализма — приближая ее к индивидуально-конкретному, с другой.
Стр. 105
У Дунса Скота (ок. 1260—1308), «доктора изощренного» («doctor subtilis») всплывают новые ценные для дальнейшего развития философской мысли точки зрения. Он, изучавший не только богословие и философию, но подобно своему соотечественнику Р. Бэкону, и математику с астрологией (она включала в себя астрономию) и оптику, обнаруживает уклон к эмпиризму. Для него — правда, принципиально, а не реально — индивидуально-конкретное не выводимо из общего, Дунс Скот высоко ставит именно индивидуальное, в «этовости» («haecceitas» — термин его последователей), а не безразличной «чтотости» усматривая последнюю, т. е. наиболее полную реальность сущего. Напротив, общее или универсальное: общие понятия, роды (genera), Скот в отличие от реалистов-платоников и возглавляемых Фомой Аквинским умеренных реалистов, понимает не как полноту всех определений, а как их отсутствие, как нечто неопределимое. Он отожествляет всеобщее с материей в смысле единого субстрата всех вещей, который реализуется в своем восходящем образовании и индивидуализации посредством все более конкретных, все более индивидуальных форм, вплоть до конкретно-индивидуальной «этовости», И мир представляется «изощренному доктору» развивающимся, развертывающимся конкретным и материальным (материально все, кроме Бога: и ангелы и души) целым, хотя и не временно-последовательно развивающимся, как в современном нам эволюционизме. Но признание реальности за подлинно — индивидуальным неизбежно должно быть признанием его иррациальности, что и сказывается в теории знания Дунса, уже вскрывая внутренний порок рационализма.
Наше познание эмпирично. Оно — «нет в разуме ничего, чего бы ранее не было в ощущении» — определяется познаваемыми предметами при посредстве чувственного их восприятия. Поэтому подлинное и полное знание является знанием единичных, индивидуальных вещей. Однако мы познаем в общих понятиях. — Эти общие понятия, думает Дунс Скот, не обладают отдельною от вещей объективною реальностью,
Стр. 106
в чем он согласен с умеренным реализмом Аквината. Но он идет дальше, отожествляя отдельность объективной реальности с реальностью вообще. — Общее понятие не познается, как отдельное от индивидуальных вещей, объемлемых им. Значит, предполагает Дуне, оно вообще не познается в вещах, в эмпирическом опыте, т. е. его как бы нет. Следовательно, оно существует только в интеллекте познающего, «secundum intellectum», и является продуктом этого интеллекта. Таким образом, сущность всякой вещи определяется двояко: вещь дана нам во внешнем мире и чувственном непосредственном опыте как абсолютно-индивидуальная и потому иррационально, а, с другой стороны, — в нашем разуме как общая, т. е. объединенно с другими и рационально. Иными словами, наше знание есть сложный продукт взаимодействия внешнего и чувственно-эмпирического с нашим внутренним и чисто рациональным, объекта с субъектом, и в качестве знания об общем, оно субъективно.
Во всем этом совершенно очевиден вызванный признанием эмпирии и ее иррациональности разрыв между эмпирией (миром) и сферою разумного знания. Но тогда встает вопрос: значимо ли это разумное знание, не является ли оно не имеющим никакого отношения к действительности продуктом нашего разума? В последнем случае оно не обладает никакой ценностью, а, следовательно, не обладает ценностью и тот вывод, к которому пришел Дунс Скот. Ощущая всю остроту проблемы и предчувствуя последствия своей гносеологии, Дунс выходит из тупика путем предположения, что общему в нашем разуме соответствует общее в вещах. Его созидает в них Божественный Разум, понятиям или идеям которого вполне соответствуют общие понятия нашего разума. Если так, то наше «субъективное» знание обладает объективною значимостью, хотя она и покоится не на опыте, а на созданном Божьим Разумом соответствии между недоступным нам объ-ективно-реальным общим и нашим субъективным общим. Поскольку мир воспринимается нами, он иррационален. Но он
Стр. 107
и в иррациональности своей создан Богом, однако, не Разумом Божьим, творящим лишь общее, а Божьей Волей.
Итак, Дунс Скот приходит к признанию иррациональности мира и созидающей его Творческой Воли. И естественно, что в воле, а не в разуме, по общему духу его системы» заключена полнота реальности. Идея иррациональной воли определяет всю его психологию и обосновывает в ней свободу человеческой воли. Но подобная теория уже ограничивает рационализм схоластики и заставляет — ведь основа всего Божественная Воля — наряду с рациональным знанием вожделеть о каком-то высшем» которое рациональным быть не может, а должно быть волевым. И Скот принципиально отделяет от философии теологию, как знание практическое и моральное, как «врачевание духа». Истины богословия не могут быть обоснованы разумом: разум должен покорно принимать их, смиренно ограничивая себя областью рационального философствования. Однако богословие содержит в себе те же истины, как таковые, разумом воспринимаемые. Они просто даны ему в откровении, обоснованы для него только откровенно. И спрашивается: возможно ли еще какое-нибудь их обоснование? По мнению Дунса, принципиально такое обоснование возможно; и он здесь лишь продолжает традицию ранне-францисканской школы, Александра Галесского и Бонавентуры. — В потенциальности своей знание наше шире разумности: оно всегда может быть и актуально расширено Богом и будет расширено Им в грядущем веке. Так мы приходим к идее какого-то сверхрационального познания, мистического или «умного». Еще один вопрос. — Не может ли возникнуть противоречие между истинами философии или рациональными и истинами богословия, которые все же приемлются как истины? Это принудит нас признать теорию двойной истины. Дунс Скот минует проблему, отрицая двойную истину и ограничивая веру практической сферой. Но дух его системы требует более ясного решения.
В лице Дунса Скотта схоластика делает от томизма шаг к эмпирии в ее индивидуальной конкретности, оставаясь, впро-
Стр. 108
чем, по-прежнему в области теории науки и дедукции. А этот шаг внутренно связан с признанием ограниченности и относительности принципа схоластики — рационального знания — и ведет к разложению схоластической системы, чрез признание же иррационального к дилемме: или двойная истина или истина единая, но при отрицании ценности разума, поскольку он противоречит положениям веры. Ученик Дунса Скотта Вильгельм Оккам (ум. 1347) обостряет противоречия, двигаясь по тому же пути. «Истинная субстанция — индивидуальное, а всеобщее (универсальное) получает спою независимую форму от интеллекта» (разума). Вне разума вceoбщего нет, утверждает Оккам, заменяя в учении Дунса понятие непознаваемости понятием небытия. В разуме же вceoбщее лишь знак (signum) или термин (terminus), замещающий множество вещей, которые он объемлет. Правда, «термин» не бессодержательное имя или слово, но и не объективно значимое: всеобще только устремление, «интенция» души на объект, «знак, сказуемый о многих вещах». Таким образом, иррациональное, индивидуально-конкретное бытие воспринимаемых нами вещей вновь оправдано, но зато обесценено общее, г. е., в конце концов, разум. Оккам пришел к номинализму, который не перестанет быть сами собой от того, что его назовут концептуализмом, терминизмом или как-нибудь иначе. Общего нет ни в отдельной от индивидуального объективности, ни в объективно-индивидуальном, ни даже в нашем сознании, в разуме, так как термин или знак сам по себе не общее: он только объемлет многое. И Оккам, конечно, не может объяснить, почему именно это многое, а не то.
Однако, здесь для нас важна другая сторона дела. — Наше знание, поскольку оно состоит из общих понятий, т. е. поскольку является рациональным знанием, не выражает собою действительности и едва ли даже обладает какой бы то ни было самоценностью. Иными словами, мир рационально непознаваем, и еще вопрос, познаваем ли рационально сам разум, который на деле может оказаться совсем не разумом.
Стр. 109
Попытка открыть принципы рационального познавания мира привела к полному отделению рационального знания от эмпирии, что ценою внутреннего противоречия, вполне, впрочем, естественного и неизбежного, выражается у самого Оккама и номиналистов в гипертрофии этого знания, в болезненном развитии логики. Кроме того, на почве номинализма с необходимостью появляется скептическое отношение к самому рациональному познанию, поскольку оно выходит за пределы его самого, т. е, распространяется на внешний мир вообще и на Бога. Если Дунс Скот отрицал лишь онтологическое доказательство бытия Божьего, Оккам доказывает недоказуемость этого бытия вообще, а также недоказуемость единства и бесконечности, конечности мира, нематериальности души. Ученики же Оккама, продолжая тенденции системы, признавали даже недоказуемость самого факта бытия внешнего мира. Действительно, что может оправдать признание во внешнем мире причин (т. е. общего понятия) моих ощущений?
Благодаря такому ограничению разума во имя разума освобождается довольно обширная область для откровенного знания и отчетливо выступает проблема мистического умозрения. Единство истины спасено, хотя и очень дорогою ценой. Однако, при всеобъемлющих тенденциях теологии и неизбежности для рационального знания ради его же самого расширять свои границы и во внешнем мире и в Богопознании, столкновение философии с теологией неизбежно. Оно обнаружится при первых же попытках перейти от теории эмпирической науки к практике и — в силу признания недоказуемости богословской истины — должно привести к теории двойной истины. Это тем легче, что не умирающий аверроистический аристотелизм теорию двойной истины включает в число своих основоположений.
13. Начиная с XIII в. аверроизм развивается параллельно и в борьбе с томизмом, непримиримым противником которого является современник Фомы С и ж е р Б р а б а н т с к и й
Стр. 110
(ум. ок. 1285 г.). Вернее, чем томизм, воспроизводя подлинную мысль Аристотеля и полнее обосновывая общезначимость знания, аверроисты видят в деятельном интеллекте или активном творческом уме высшую, чем человеческая душа с ее «intellectus passibilis», субстанцию. Этот ум существует в себе, не сливаясь ни с человеческой душой, ни, тем не менее — с телом. Он вceoбщ, един и абсолютно-нематериален, В нем, как и в его отдаленном философском предке — Novs, Уме, все знание и бытие. И он вступает, как всеобщая интеллектуальная душа, во временное соединение с индивидуальными человеческими, растительно-чувственными и смертными душами. Таким образом, знание является не человеческим, а Божественным актом, к которому человек лишь мимолетно причастен. Из Ума с необходимостью развирается мир, но мир не есть непосредственное создание Божества, которое действует через посредство создаваемой Им нисходящей иерархии сущностей, эманирующих из Него. Поэтому в мире нет и Божественного Промысла, но все совершается необходимо. Тем не менее, именно в силу необходимости своего возникновения мир вечен и, если смертен телесно и душевно человек, бессмертно человечество. Нельзя помыслить начало или конец непрерывного ряда рождений, а потому отпадает, как бессмысленный, и вопрос о будущей жизни. Все эти положения, доказываемые рационально, а отчасти умозрительно, coвеpшенно непримиримы с догмами христианства, в которые аверроисты верят. Отсюда с неизбежностью вытекает теория двойной истины, понятная лишь на почве отрицания всеобщности закона противоречия, к чему предрасполагает новоплатоновское умозрение. В XVI в. Жан из Жанден (Johannes de Genduns) определенно указывает, что в Боге возможно невозможное по разумным основаниям. Есть нечто высшее разума, в чем противоречия примиряются, В силу все еще недостаточного знакомства нашего со средневековым аверроизмом мы больше в состоянии оценить его философские и гносеологические потенции, чем его реальные достижения. Несомненно, чрезвычайно существенно, что, вы-
Стр. 111
двигая значение активного или абсолютного Божественного ума, аверроизм дает возможность преодолеть солипсизм гносеологических теорий. Но эта опасность наименее ощущалась рационалистическими системами схоластики. Исторически (в обычном смысле этого термина, равнозначном словам «для данной эпохи») важнее другое следствие рассматриваемого учения. — Аверроизм указанием на абсолютную природу знания обосновал его общезначимость и объективный смысл, являясь противовесом вытекавшим из томизма скотизму и номинализму. Для аверроиста немыслимо было утверждение, что какое бы то ни было знание, даже рациональное, только субъективно и общим понятиям не соответствует во внешнем мире ничего реального. В то же самое время аверроизм, подчеркивая, что мышление наше является мышлением Абсолютного, устранял идею оторванности познания от бытия и репрезентативности знания. Необходимо было или признать пантеистическую теорию, к чему склонялось большинство аверроистов, или возобновить, несмотря на все ее неясности, платоновскую теорию «причастия». Наконец, аверроизм же, в общем, недостаточно четко различая виды знания, все же по крайней мере — практически отводил важное место умозрению или интеллектуальной интуиции, существенно отличной от познания рационального. В связи с этим стояло настойчивое указание на внутреннюю противоречивость разумного познания, что обращало мысль к идее совпадения противоположностей. Все эти стороны аверроизма представляются мне исключительно важными для дальнейшего философского развития, хотя я и не склонен преувеличивать непосредственное влияние аверроизма. — Во-первых, те же тенденции обнаруживал и новоплатонизм вообще, в частности новоплатонизм арабов и мистиков. А во-вторых, и аверроизм и новоплатонизм несравненно важнее для историка философии не в качестве «факторов» — факторами занимаются только плохие историки, — а в качестве моментов развития и — еще более — симптомов некоторых необходимых на данной стадии философствования тенденций. То же
Стр. 112
самое соображение, само собой разумеется, применимо и к рассмотренным ранее системам.
В известном смысле аверроизм был дополнением и одностороннею поправкою перипатетических систем. Односторонность и недостаточность его сказывались в ряде характерных черт. — Он чужд был того уклона к рационализму и, в частности, к формальной логике, какой мы замечаем у Фомы, Дунса Скота, Оккама, номиналистов, а потому не мог вскрыть ограниченность рационализма. Поэтому же высказывая, как существенный корректив к теории единой богословской истины, теорию двойной истины, он подняться над взаимопротиворечием обеих теорий не мог. Далее, защищая важные для развития теории мира тезисы о вечности мира, его единстве, мировой душе, царствующей во вселенной и связуемой с движением звезд необходимости, аверроизм менее, чем томизм и скотизм или номинализм, тяготел к эмпирии. Он не мог обосновать, да и не интересовался обоснованием конкретно-индивидуального, удерживая за то своей пантеизирующей тенденцией идею единства мира.
Аверроизм, центром которого в ХIII в. является Париж, но который к началу XIV переносится в Падую, где его насаждает Пьетро дъАбано (ум. 1315 г.) и где он расцветает в XIV и XV, продолжая держаться вплоть до XVII-гo, по существу своему не что иное, как вид новоплатонизма. В этом его значение для средневековой философии, разделяемое им с другими ново-платоновскими течениями и приютившей их мистикой. Не следует резко противопоставлять мистику схоластике. С одной стороны, не только у Роджера Бэкона и Раймунда Луллия, но и у Альберта Великого, учителя Фомы, у Дунса Скота, продолжившего в этом отношении Бонавентуру, можно отметить мистические теории и моменты; с другой — такой мистик, как Эккехарт, является в теоретической философии последователем Аквината. Однако нельзя и умалять своеобразие и особую ценность мистического течения. От ранней мистической и новоплатоновской схоластики — от
Стр. 113
Эриугены, Шартрской школы и Ансельма Кентерберийского чрез теории мистики, развитые викторинцами, Бернардом Клервосским и Гильомом из Тьерри, систематизированные Бонавентурой, движется, косвенно обусловленная Амальрихом Бенским и Давидом Динанским, мистическая мысль Средневековья к мейстеру Эккехарту и его ученикам, к сохранившим незапятнанным свое правоверие Рэйсбруку, Пьеру дъАий, Денису Картузианцу и Жаку Жерсону. Эккехарт (ум. 1327), продолжая традиции Дионисия Ареопагита и Эриугены, а чрез них — новоплатонизма, сосредоточивается не на изучении окружающего его мира, а на внутренней жизни сознания и природе непостижимого Божества. Его мысли развивают и дополняют ученики — И о г а н н Т а у л е р (ум. 1361) и С ё й с е (ок. 1300 -1366). Эккехарт — и теоретически и практически — очень ярко и определенно выдвигает значение мистического созерцания, как необходимого метода боговедения. Это созерцание покоится на единстве души с Богом и безмерно превышает познание рациональное, «Чтобы Бог мог войти в своем свете, естественный свет разума должен окончательно погаснуть», формулирует идею учителя Таулер. Знание рациональное скорее должно быть признано незнанием. И помощью именно такого истинного знания или мистического умозрения Эккехарт открывает простоту Бога, сущности сущностей, единой с познающим его духом «искоркой души». Но, как в абсолютной полноте всяческого и, в то же время, в абсолютной простоте, в Боге не может быть различий. «В Нем «да» есть «нет» и обратно». Если же так, то и мистическое умозрение выше противоречий, существующих для разума. Оно раскрывает Эккехарту, что Бог — всеединое истинное бытие, а творения из ничего и ничто, в истинности же своей — Бог. Все, что делает творение творением: его «здесь» и «теперь», его число, свойства, инаковость, — совершенно ничто, и человек, в котором идеально находятся все вещи, должен, возвращаясь к Богу и возвращая в себе к Нему всех их, сделаться чистым Божеством,
Стр. 114
без акциденций, т. е. должна прекратить существование его личность.
Таким образом, мистика, в противоположность рационалистической схоластике и отчетливее, чем аверроизм, обосновывает умозрение, возводящее до постижения превышающего рациональные противоречия Бога и до единства с Ним. Познавая Божество и творение, она охватывает все, как единое, и у Эккехарта, склоняется к отрицанию акцидентального бытия, как такового. В качестве теории, мистика полнее раскрывает тенденции, движущие аверроизмом. Но она сильнее его и связью своей с конкретной религиозной, а, следовательно, и всякой жизнью индивидуума. Мистик-практик Рэйсбрук (1293 — 1381, «doctor extaticus») от мистической жизни восходит к умозрениям, родственным теории Эккехарта. Однако он с энергией настаивает на разносущности Бога и твари, борясь с пантеизмом, и, познавая в Боге всеединство, отмечает, что в Нем находятся все творения, и некоторой, но неполной своей инаковости, как идеи, являющиеся основаниями их временно-тварной сущности. В этой мысли, воспринятой учеником Рэйсбрука Геертом-де-Гроотом (1340—1384), основателем братства общей жизни, из Девентерского дома которого вышел автор «Подражания Христу», дан принцип индивидуального бытия. Правда, признание абсолютной ценности за индивидуально-конкретным остается в пределах религиозной Жизни личности. Оно не приводит ни к натурфилософии, как у аверроистов, ни к стремлению в познание эмпирии. Но намечающаяся связь мистики со схоластикою уже ясна. Ж е р с о н (1363-1429), «doctor christianissimus», вслед за викторинцами, выделяет созерцание или умозрение. И для него, как и для Эккехарта, созерцаемое неописуемо и непостижимо. Оно — бесконечный Божий свет или — тьма, как удаление созерцающего от всего мыслимого и как непонятное. Но Жерсон не только мистик. Он хочет исправить номинализм, отрицающий объективную реальность всеобщего. — Всеобщее существует в разуме, но основание всеобщего,
Стр. 115
позволяющее разуму отвлекать его от индивидуальных вещей, заключается в самих вещах, и в Боге находятся как идеи единичного, так и идеи общего.
Средневековая мистика представляет собой постоянный и эмоционально-действенный призыв к умозрению от одностороннего рационализма. Она подводит к идее возможности целостного знания, но, указывая на богатство и смысл внутреннего опыта, пренебрегает опытом внешним, погружаясь в умозрение, часто забывает о рациональном познании. Она стоит, в общем, несколько в стороне от философии, хотя и родственная, как ранне-средневековому новоплатонизму, так в некотором отношении и аверроизму. Воздействуя на философию, мистика не склонна приниматься за попытку неудающегося этой философии синтеза. Но синтез уже намечается. — В разложении рационализма обнаруживается его недостаточность и ограниченность, которые можно преодолеть только путем обращения к иным видам познания. А они предуказаны и в аверроизме и, особенно, в мистике, характеризующей превосходство умозрения в преодолении им рациональных противоречий. С другой стороны, растущее тяготение схоластики к эмпирии рано или поздно, но должно заставить обратиться от дедукции к внешнему опыту, тоже иррациональному, и если номиналистическое дробление мира ценно тем, что обосновывает индивидуальное, защита oбщего и яркая в аверроизме и мистике идея всеединства парализуют гибельные последствия номинализма и устраняют опасность теории репрезентативного знания. Идея всеединства склоняет к пониманию какого-то родства до-разумного чувственного опыта со сверхразумным, мистическим, и с разумным или рациональным и обосновывает объективную общезначимость знания, как Божественного мышления. В той же идее всеединства заключена мысль о необходимости или ненарушимой законосообразности мирового процесса, в конкретно-индивидуальной дробности своей предстоящего номинализму, в единстве индивидуума с абсолютным бытием — мистике. Можно сказать, что синтез уже дан, но только дан он
Стр. 116
реально — в рациональной противопоставленности разных течений философии, идеально, — в их умопостигаемом единстве. Актуализацией этого единства, перебрасывающей мост от Средневековья к Новому Времени, является система Николая Кузанского, истинного учителя Бруно.
14. Н и к о л а й К р е б с (Nicolas Chryppfs) по месту своего рождения (Cues на Мозеле) называемый Кузанским или К у з а н ц е м, родился в 1401 г., получил образование в Девентере, в школе братства общинной жизни, через Геерта-де-Гроота связанной с Рэйсбруком, и здесь вошел в соприкосновение с немецкой мистикой. В Падуе он изучал право, математику и философию; там в числе профессоров находился тогда августинский монах П а в е л В е н е ц и а н с к и й (ум. в 1429), аверроист и «excellentissimus philosophorum monarchsa». Защитник папства против притязаний соборов, Николай в качестве знатока греческого языка отправляется папским послом в Константинополь, в 1448 г. возводится в сан кардинала, через два года становится епископом Бриксенским, деятельно реформирует, по поручению папы, немецкую церковь и в 1464 г. умирает в Италии, в Тоди. Замечательно образованный, изучивший греческий, еврейский и арабский языки, глубоко осведомленный во всех областях современного ему знания, Кузанец — выдающийся математик, «открывший», по словам Бруно, «величайшие тайны геометрии», давший математическое понятие о бесконечности. Опережая открытия Коперника и астрономию XVI-XVII в., он учит о вращении всех звезд, одной из которых является земля, по кругообразным орбитам, объясняя тот факт, что мы движения земли не замечаем, относительностью движения и центра в безграничном мире. Для объяснения прецессии равноденствий Кузанец предполагает особое движение земли (нутацию) и признает форму земли не сферической, а сфероидальной. Наконец, он предлагает исправление календаря, позднее произведенное на основании тех же принципов, и, живо интересуясь естествознанием, дает идею ряда опытов,
Стр. 117
свидетельствующих об исключительной наблюдательности и остроумии экспериментатора. По философскому своему направлению Николай Кузанский органически связан с немецкой мистикой, от нее восходя к викторинцам, Эриугене, Дионисию Ареопагиту, новоплатоникам и обогащая ее данные знакомством с арабскими мистиками и философами. Корни его системы уходят еще глубже. Многое почерпает он у Платана и Филона, но более всего обязан новоплатонизму. Сам Кузанец позволил свое философское учение, не отрицая, впрочем, и своих учителей, к мистическому озарению, полученному им на пути из Греции в Италию.
Николай Кузанский сознавал оригинальность и значительность своего замысла: современная схоластика его не, удовлетворяла. Он видел рабство философов. — Сильна ныне «аристотелевская секта», и следовало бы прибавить к Амвросиевой литании слова: «От диалектиков избавь нас, Господи». Надо преодолеть болтливую логику, вредную для богословия, и открыть новый путь для философии. В этом видит Кузанец свое призвание, полный верой в мощь своего умозрения.
Познание не что иное, как уподобление познающего познаваемому: древние были глубоко правы, утверждая, что подобное познается подобным. При этом уподобление или «духовное измерение» обуславливает возможность действительного знания или обладания объектом, т. е. возможность реального нахождения познаваемого в познающем. Николаю Кузанскому нет необходимости настаивать на подлинности знания или тожестве мышления и бытия, потому что эта проблема в схоластике не ставилась с той остротой, как ныне: она всплывала в скотизме и номинализме только для рационального знания, в обусловленных же платонизмом течениях решалась положительно. Тем не менее, гносеологическая позиция Кузанца совершенно ясна и получает принципиальное обоснование в его учении о Божественном свете.
Необходимо принять, что знание наше начинается с чувства (ощущения) или чувственного опыта (sensus): «В разуме
Стр. 118
нет ничего, чего бы ранее не было в чувстве». Для деятельности своей разум нуждается в конкретных образах или фантасмах, даваемых ему чувством. «Чувственное через посредство органов тела восходит до самого разума, который приникает (adhaeret) к мозгу посредством тончайшего и духовнейшего духа (spiritu tenuissimo ас spiritualissimo)». Чувственное есть нечто инаковое, множественное, материя, нечто неоформленное и необъединенное, потенция объединенности и оформленности. Разум, нисходя к чувственному и не переставая быть самим собою — никогда, высшее, погружаясь в низшее, не теряет себя самого: это мы наблюдаем и во внешнем мире — является формой чувственного, объединяет его. Чувственное восприятие дает нам — нельзя видеть, если нет видимого предмета, — самое действительность, то, что находится «здесь» (hiс) и в «этих вещах» (in his rebus), т. е. «этовость», но дает в неразлученности и смешанности множественного. Для того, чтобы оформить и объединить чувственную множественность, необходима различающая и отрицающая либо исключающая, а в отрицании утверждающая ограниченное отрицанием деятельность разума. Таким образом, основным законом разума является закон отрицания т.е. закон противоречия или непримиримости противоречий, и проявляется разум в дискурсии или силлогизации. Без подчинения закону противоречия разум действовать не может, а, следовательно, не может быть и знания. Ведь, если нельзя видеть без видимого, т. е. предметов и света, то нельзя видеть и без способности зрения, т. е. разума. Чувство не создает воспринимаемых им объектов: они существуют, как реальность и в то же время — как потенция воспринятости или познанности, актуализируемая разумом в процессе восприятия. Точно также и разум, действуя по закону противоречия, различая и разлагая, отрицая, не создает из себя оформляющие неразличенный материал чувственности роды, виды, универсалии. Он только актуализирует себя — ведь он неотрывен от чувственности, а одно с нею — в образовании материи или в обнаружении в
Стр. 119
ней общих понятий. Сами же общие понятия или универсалии существуют объективно, только не отдельно от вещей, а в вещах; в разумности своей они отвлеченны, не обладая в ней полнотой своей реальности. «Так геометр воспринимает чувственные фигуры с помощью чувственного органа — глаза, для того, чтобы видеть фигуры духовные. И это духовное видение не менее истинно, чем чувственное, и тем важнее, чем более созерцает дух фигуры сами по себе, Отрешенными от изменчивости материи. Отрешенное же от всякой изменчивости не что иное, как истина, ибо истина не что иное, как отсутствие изменчивости. Итак, дух видит фигуры свободными от всякого различия. Он видит их в истине, а не во внешнем мире, ибо в духе созерцает он их, а это не может быть вне духа».
На законе противоречия покоятся все выводы господствующей доныне аристотелевской философии; на нем же утверждена и гордость разума — математика, числа которой и являются высшими формами. Но, как ясно из сказанного, разумное познание условно и ограничено. Разум разлагает первичное единство чувственно-данного, отрывает от конкретности ее сторону — общее, лишает конкретность ее полной реальности. Ему доступна действительность лишь частично, в ее инаковости, «alteritas ас diversitas», и выйти за пределы инаковости, постичь основание ее он не может не отказавшись от закона противоречия, т. е. от себя самого. Разум не в силах познать вещь в ее истинности, такою, какова она есть, целиком. Вещь в себе (res uti est) для разума недоступна, не потому, что ее нет, а потому, что, как явствует из анализа природы разума, он неизбежно ограничивает познаваемое. Тем менее доступно разуму абсолютное бытие, возвышающееся над всем существующим. Всякое наше познание о существе вещей, о их «чтотостии (quidditas) и о Боге — только предположение, догадка (conjectura). Поскольку постижение того и другого выходит за пределы инаковости, оно есть незнание, неведение. Однако, само догадочное знание указывает на высшее, дает возможность
Стр. 120
постичь его ограниченность и прийти к сознанию своего неведения, что уже и является в некотором смысле высшим знанием, «научёным» или опознавшим себя неведением — «docta ignorantia». — Если бесконечно увеличивать стороны треугольника, прямая основания, в конце концов, совпадет с ломаною двух других сторон: противоположности совместятся. Равным образом в пределе совпадают тупой и острый углы, ибо острый угол в пределе есть такой, острее которого быть не может, а пока стороны его не совпали, он не самый острый, как нет до выполнения того же условия и самого тупого угла. Путем аналогичного рассуждения мы приходит к совпадению кривой и прямой линий (дуга окружности и касательная или хорда), вписанного или описанного многоугольника и круга. И если мы представим себе бесконечно-быстрое движение тела вокруг центра его орбиты, это движение окажется совпадающий с абсолютным покоем. Но нельзя предполагать, что предел бесконечного увеличения или уменьшения движения, является чем-то воображаемым и нереальным. Он реален, как и постулирующие его факты сознания: по учению философии, прогресса в бесконечность быть не может и бесконечность истинная есть бесконечность завершенная. Пользуясь терминологией Георга Кантора, следует признать бесконечное Николая Кузанского не за «indefinitum», а за «transfinitum», за «wohlgeordnete unendliche Mannigfaltigkeit». Оно не бесконечное движение, а его принцип, упорядоченность, целостность.
Итак, сам разум приводит нас к принципу, которого он не вмещает, но благодаря которому он существует, — к совпадению противоположного, «concidentia oppositorum». Разум открывает в основе своей разумной деятельности «порог совпадения противоположностей, охраняемый ангелом, поставленным при входе в рай». Однако, в этом постижении, как и в познавательной деятельности разума вообще, перед нами уже нечто большее, чем связанный с чувственностью и мозгом разум, «Разум силлогизирует, но не знает, о чем силлогизирует, без ума». Он сам по себе, подобно чувствен-
Стр. 121
ности, нечто еще не оформленное, не актуализированное, не озаренное. Ведь разум есть и у животных, но животные, умозаключая или силлогизируя, не отдают себе в этом отчета и не в силах судить о предмете своих умозаключений. Необходима таким образом оформляющая, «образующая» деятельность высшей способности или ума (mens). — Ratio syllogizat et nescit, quid syllogizet, sine mente; sed mens in-format et delucidat et perficit rationationem, ut sciat, quid syllogizet». Ум или интеллект, о котором не хотят ничего знать аристотелевцы, тоже присущая человеку способность, такая же форма по отношению к материи-разуму, как разум по отношению к материи-чувству. Чувство утверждает, разум отрицает, ум содержит в себе и утверждение и отрицание. Он выше закона противоречия: он отрицает противоречия и тем самым во всем познает истину. В нем раскрывается единство бытия, совпадение возникающих в разумном познании противоположностей. Поэтому опознанное неведение и есть совершенное знание: «docta ignorantia est реrfecta scientia». Это—мудрость, «постижение непостижимое», целостная интуиция, а не дискурсия. В уме потенциально заключено и актуализируется им все, все идеи. Но его всеединство не безразличное единство. В нем противоположности не просто одно, а единство сосуществующего и взаимосогласованного. В уме противоположности «compatiuntur», тогда как в разуме они расходятся и противостоят друг другу. И ум не разделяет и различает, а видит или созерцает, его деятельность — «простое воззрение», «simplex intellectio» или «intuitus».
Разум связан с чувственностью. Но ум не может быть связан ни с чем телесным уже по тому одному, что он всеединство, исключающее пространственную (и временную) внеположность. «Ум не зависит от чего — либо для того, чтобы умозреть умное, и не нуждается ни в каком ином орудии, будучи началом своих действий», впрочем, как мы сейчас увидим, с некоторой оговоркой. Ум воспринимает идеи, обеъкты своего познания не извне, но вызывает их из
Стр. 122
собственного своего лона, актуализирует себя самого в видении их: деятельность разума является лишь поводом к восстанию идей в лоне ума. Однако, не следует понимать Кузанца так, что идеи и есть сам ум и познание ума субъективно. Идеи — само объективное бытие (а не копии или образы бытия). Поэтому и отделенность ума от разума и чувства лишь относительна. Ведь ум просвещает и образует разум, признает истинность того, о чем разум силлогизирует. Данное в чувственности вполне объективно, но дано оно не как полнота объективности, а как чувственная объективность. Отвлекаемое путем отрицания разума общее тоже объективно, но частично и в оторванности своей не является полнотой объективности. Ум же воспринимает эту самую полноту, а в ней и то, что дано разуму, и то, что дано чувству. Иными словами, объект познания один, но он воспринимается частично и чувством и разумом, полно умом, причем «умозрение» объемлет познаваемое и в чувственности (в истинности чувственности) его и в истинности его разумности, являясь актуальной бесконечностью обеих. Этим устранена возможность того, чтобы признавать чувственное либо разумное познание иллюзорными.
Однако, если вдуматься в понятие актуальной бесконечности, окажется, что она предполагает нечто высшее, выражаемое ею «per infinitum diminute». Актуальная бесконечность (transfinitum), постигаемая нами в качестве предела приближающегося к ней бесконечного процесса или потенциальной, «дурной» бесконечности (infinitum), не постижима для нас в принципе своем и природе как истинная бесконечность или Бог, в котором все содержится единично, но безразлично, «свернуто». «В Божественной свернутости» все совпадает без различия, в интеллектуальной все противоречивое сотерпится; в разумной противное, как противоположные различия, в роде», «In divina complicatione omnia absque differentia coincidunt; in intellectuali contradictoria se compatiuntur; in rationali contraria, ut oppositae differentiae, in genere sunt». Выше всеединства
Стр. 123
должно быть истинное всеединство. Ум еще не возвышен над инаковостью: в нем есть различие познающего, познаваемого и познания; он не является еще вполне актуализовавшимся, чистым актом. Это понятно. — «Ум, созерцающий неизменное само по себе, созерцает неизменное, хотя сам он и подлежит изменению, не в своем изменчивом состоянии (гнев, например, мешает видеть истину), но в собственном его, неизменного, состоянии. Это — истина. Таким образом, то, где ум созерцает созерцаемое им, — его собственная истина, а равно — истина всего созерцаемого им. Следовательно, в человеческом уме находится свет истины, которым он есть и в котором он все видит».
Возможность полной актуализации ума и вместе с тем возможность подлинного знания (а не знания репрезентативного) необходимо предполагает истинное абсолютное всеединство. И только оно, как единство мышления и бытия, в силах обусловить не только полную актуализацию ума, а и всякую, даже самую неполную и несовершенную его деятельность. Это всеединство является объективным принципом деятельности ума и его самого, как всеединства второго порядка. Оно — постигаемое (не только — познавательно-приемлемое) и в то же время свет, озаряющий постигаемое и делающий возможным само постижение, постигаемый спет. Однако, в виду того, что постигает ум, всеединство одновременно является и субъективным его принципом, его постигающим светом. Чувственное познание возможно лишь при условии двоякого света: внешнего в вещах и света разума: познает не чувство, а разум чрез чувство. Точно также и в умном постижении постигает объективный свет чрез ум и в уме. «Истина в человеческом уме подобна невидимому зеркалу, в коем он видит все для него видимое. Но эта сравниваемая с зеркалом первоначальность столь велика, что превосходит она силу и остроту ума нашего. Однако, чем больше воздымается и обостряется сила ума, тем вернее и яснее видим мы все в зеркале Истины… Эта созерцательная деятельность ума есть движение его от бытия к сущности». Но
Стр. 124
бытие и существо yмa разделены как бы непереходимой пропастью, а, следовательно, движение бесконечно, будучи в то же самое время самым радостным, не утомляющим и приводящим к вечной жизни ума. «В этом смысле движение ума содержит в себе покой, ибо оно не утомляет, а пробуждает пламенное одушевление. И чем скорее движется ум, тем радостнее двигается он, ведомый светом жизни в своей собственной жизни. Движение ума совершается как бы на линии, которая сразу и прямая и кругообразная. Ибо исходит оно из убежденности, что есть Истина, или из веры и ведет к знанию или к сущности Истины. А так как отделено то и другое бесконечно большою линией, движение это стремится исполнить ее и в начале найти конец т. е. в бытии сущность. Ибо ищет оно совпадения, где сходятся начало движения и конец его, а это и есть движение круговое. Так ум созерцательный стремится прямым путем достичь совпадения наиболее удаленного друг от друга. Посему движение мыслящего и богоподобного ума отображено линией, в коей совладают прямая и кривая».
Николай Кузанский называет этот свет, двоящийся на объективный и субъективный, причем выступает то та, то другая его сторона, Божьим Словом, сверхъестественным светом Божьего Духа, светом Божьей благодати или светом веры. «Дух Истины есть сила, озаряющая слепорожденного, чрез веру обретающего видение». А вера — «благое состояние (habitus) чрез благость, данную Богом, дабы посредством веры восстали те объективные истины, коих ум достичь не может». Поэтому «вера» необходимо предшествует познанию, и мера ее определяет меру знаемого. Вера — «начало ума», «initium intellectus», движущее ум к восприятию. Свет веры ведет к усовершению потенцию интеллекта, озаряет ум, чтобы ум, поднявшись над разумом, воспринял Истину. Итак вера есть некая сила, движущая ум, основа его движения. Для того, чтобы познавать, ум, уже должен обладать некоторыми исходными началами, «principia». Их и утвер-
Стр. 125
ждает вера: ум верит в них, истинных верою: «error principiorum est fundamenti debilitas». Если же так, то вера содержит в себе все интеллигибельное, а ум лишь развертывает ее содержание. — «Fides igitur est in se complicans omne intelligibile. Intellectus autem est fidei explicatio». Следовательно, вера не только сила, но и «откровенная истина»: «fides est veritas revelata». —
Итак, со стороны содержания вера — Истина или само Божество, свернутое или истинное всеединство. Она, как свет благодати, нисходит в ум, и ум, приемля ее волею — он может и поверить и не поверить, — становится субъектом веры, а вера делается его субъективным светом и е го добродетелью, не переставая быть светом объективным. Благодаря вере и становясь верующим ум переходит из состояния потенциальности в состояние развернутого всеединства и относится к свернутому всеединству, как «explicatio» к «complicatio». Но вера влечет его далее, к чистому и полному Богопостижению и, следовательно, Богоуподоблению. Когда божественный свет целостно ого пронижет и озарит, ум всецело познает себя в этом свете, а в себе самом целостно и всеедино постигнет все интеллигибельное, ранее постигаемое им лишь частично и пробуждаемое теофаниями, нисходившими к нему во внешних вещах. Тогда он подымется над тенями и образами Истины и, войдя в себя самого, над инаковостью, даже над различием между познаваемым, познающим и познанием. Он станет самою Истиной, умопостигающий и живущий, «intellectus purus secundum se, qui extra intelligibile nihil potest intelligere esse posse». «Итак, Истина не будет уже иным чем-то уму, ни жизнь, которою он живет, не будет иною, чем сам живущий ум, по всей силе и природе умной мощи, которая все сообразно себе обтекает, и всем себя делает, раз все в ней она сама. И сыновление есть вынесение (ablatio) всякой инаковости и различия и разрешение во единое всяческого, каковое есть излитие во всяческое единого. И это сам феосис. Ибо, когда Бог единое, в коем единство всяческое, каковое есть также излитие
Стр. 126
единого во всяческое, дабы всяческое было тем, что есть оно (а в умном услаждении совпадает оно как единое, в коем всяческое, и как всяческое), — тогда истинно мы обожаемся, если до того возносится, что в едином мы оно само, в коем всяческое и во всяческом единое». «Сокровенным неким воззрением можешь предвкусить то, что не что иное сыновление, как это перенесение от тенных следов подобий к единению с самим бесконечным Разумом, в котором и чрез который дух живет и жизнь свою умопостигает, однако же так постигает, что ничего вне себя самого живущим не зрит, как если бы жило лишь то всяческое, что в нем самом сам он, и что познает себя обладающим толиким преизобилием жизни, что все в нем живет вечно и ничто, кроме самой Жизни живущих, жизни ему не дарует. Не будет Бог иным, чем Дух, ни от него раздельным, ни отличным, и не будет иным Разум Божественный, и Слово Божье, и Дух Божий. Ибо всякая инаковость и различность много ниже самого сыновления». Но плохо поймет Кузанца тот, кто истолкует эти слова в смысле исчезновения личности или индивидуальности умопостигающего. Личность не исчезнет, а целиком будет воспринята всеединством, ибо всеединство не безразличность или безразличная потенциальность, а свернутость, «complicatio», или совершенная и актуальная полнота всяческого, содержащая все единичное в свернутости, но не в эмпирической развернутости или эксплицитности. Понятия «complicatio» и «ехplicatio» принципиально отличны от понятий потенции и акта: акт может быть и эксплицированным, (хотя в этом случае и несовершенен) и комплицированным.
Итак, гносеология Николая Кузанского — мы легко усматриваем ее внутреннюю связь со средневековой философией и напоминаем о родстве ее Плотиновской — является вместе с тем и его онтологией. Она утверждает единство знания и бытия, единство знания, как такового, во всех его проявлениях, почему неуместны упреки в ипостазировании или субстанциализировании «способностей» чувства, разума, ума. Самый важный, но и самый темный ее момент — различение
Стр. 127
между умом и Богом, Бог, как высший принцип бытия и знания, требуется и понятием актуальной бесконечности и (что сводится к тому же) реальностью эксплицитности, даже самого умозрения и дурной бесконечности или относительности нашего бытия. В самосознании моей реальной относительности и признании моей индивидуальности не исчезающею даже в комплицитности Бога дано основание того, что Абсолютное не тожественно мне, или основание идеи тварности моего я. Поэтому концепция Кузанца и ближе к идее Рэйсбрука, чем к идее Эккехарта. Второй склонен (я не говорю, что склонность его актуализируется) к отожествлению я с Богом, а потому отрицает бытие я, как такового, в Боге и Абсолютное делает относительным под видом Его утверждения: нет ничего, кроме Бога. Первый сущностно различает Бога от я, а потому утверждает бытие я в Боге и сохраняет абсолютность Бога под видом ее отрицания. Кузанец стоит как бы посредине, но принципиально ближе к Рэйсбруку. И срединность его положения обуславливает исключительные трудности в понимании его системы. Они еще встанут перед Бруно.
Знание не что иное, как Богооткровение, на высших ступенях превращающееся в Богоуподобление и обожение. Отсюда и из самого принципа совпадения противоположностей вытекает, что всякое знание в известной мере и в известном смысле истинно, отличаясь лишь мерою или степенью своей истинности. Поэтому существует лишь одна философия, которая в то же самое время должна быть и единой истинной религией. Все системы и все религии в известном отношении правы, все сводимы к одной истинной, которою для Кузанца является христианство. Но в сведении всех религий к единой возможны два пути, в зависимости от того, признается ли откровение христианства законченным или нет. В первом случае все прочие религии истинны лишь в меру совпадения с христианской, во втором, — они могут дать ему нечто в нем еще несказанное, его дополнить (а почему бы тогда и не исправить). Для понимания философии Бруно и его
Стр. 128
«religione della mente» важно выдвинуть две указанных сейчас возможности в развитии системы Николая Кузанского, мечтавшего о примирении восточной и западной церквей и открывавшего истину в самом мусульманстве. Здесь Кузанец до известной степени сходится с ценимым им Луллием.
Высший объект умного интуитивного знания — Абсолютное, Божество, выше которого ничего нет и ничего нельзя помыслить, «Absolutus omni ео, quod aut dici aut cogitari potest». Ho, как Величайшее, «Maximum», Бог — все, что возможно. Он не может быть больше, чем Он есть, но не может быть меньше: тогда бы существовало нечто большее, чем Он, по малости. Следовательно, будучи наибольшим, «Maximum» Бог есть и наименьшее, «Minimum»: обе противоположности в Нем совпадают, как непостижимое для нас единство или свернутость, «complicatio». Обе равно необходимы. Действитeльно, «умопостигать — значит уподобляться и измерять умопостигаемое самим собою или интеллектуально». Но для измерения нужна мера. Точно также и в мире все существует лишь мерою или числом, необходимым условием множественности вещей. Поэтому должно быть нечто малейшее, «minimum» как мера, не число, правда, но — принцип числа.
Совпадение противоположностей прослеживается и дальше, — Философия должна исходить из несомненного принципа, не могущего быть подвергнутым сомнению. А таковым принципом является положение: невозможного нет, невозможное не существует, не возникает. Следовательно, все действительно существующее тем самым возможно и есть возможное. Но возможность не может сама себя сделать действительностью; тогда бы она перестала быть возможностью, а действительностью бы и была. Но превращающая возможность в действительность, действительность в свою очередь раньше должна была быть возможностью. Иначе, по принятому положению, она не была бы действительностью. Получается, что возможность и первее и вторичнее действительности. И то и другое в отдельности невозможно и потому недействительно по существу. Следовательно, необ-
Стр. 129
ходимо допустить, что первоначало бытия и знания — двуединство возможности и действительности, сразу и «posse» и «esse» или «est» т. е. «Possest», «Мочесть». При этом надо помнить, что Бог есть все, и, мысля Его как возможность, «Posse», не ограничивать возможности прибавками понятий бытия, жизни, к чему склоняет сочетание глаголов «esse» и «posse» в наименовании его «Possest». Бог не «posse esse», «posse vivere» и т. д., не «posse cum addito», а «Ipsum Posse». Именно в качестве «Possest» (с приведенною оговоркою) Бог и есть как Наибольшее, так и Наименьшее, бесконечно большое и бесконечно малое в смысле абсолютной бесконечности. Конечно-большое или конечно-малое может быть больше (respective — меньше), но Бесконечно-Большое (respective — Бесконечно-Малое) ни больше ни меньше быть не может. Точно также все противоположное, все взаимоисключающее в Боге является непротиворечивым единством. Бог — все, что мы о Нем можем мыслить или в Нем отрицать, и в то же время — ничто из того, что мы о Нем мыслим или отрицаем. Он выше противоречия, абсолютное тожество (non aliud). Превышая все противоречия. Он выше противоречия между бытием и небытием, повторяет Кузанец онтологическое доказательство Ансельма Кентерберийского. «Как возможно умозреть, будто Наибольшее может не быть, когда быть Наименьшим значит быть Наибольшим?» Бог необходим и как Бытие и как Истина, Его невозможно помыслить несуществующим, ибо тогда придется признать, что Его небытие — Истина, т, е. Он утверждается самою попыткою отрицать Его. Сомнение к Богу неприложимо, так как вопрос: «Есть ли Бог?» уже предполагает бытие, т. е. Бога. Он существует необходимо, и без Него не может быть ничего иного. Ведь то, что не есть Величайшее, Наибольшее, то, что конечно, не могло и не может само извести себя в бытие. — Опять перед нами отчетливая интуиция конечного, ограниченного и, следовательно, обусловленного, т. е. тварного бытия.
Единство по самой природе своей предшествует инаковости, т.е. Изменчивости, ибо Инаковость состоит из одного
Стр. 130
и иного. Следовательно, Единство неизменно и вечно. Но Инаковость предполагает еще и Неравенство (ибо в инаковости дано, по крайней мере, двойство) и состоит из равного и иного, сводимого, если отбросить то, что прибавилось (а нечто, хотя бы вторичность, непременно прибавилось) на первое. Так как Неравенство совпадает с Инаковостью, то Равенство предшествует Инаковости — Изменчивости и вечно, как Единство. Из следствий двух причин первее следствие первой. Единство само есть Связь или причина Связи, ибо нечто связано с иным потому, что находится с ним в единстве; напротив — Двойство есть деление или причина деления: в двойстве дано первое Деление. Но раз Единство первее Двойства, то и Связь первее Деления, которое, как Неравенство, дано всегда вместе с Изменчивостью. Следовательно, Связь так же вечна, как Единство, и дана в нем и с ним. Таким образом, вечны — Единство, Равенство, Связь. Но вечное не может быть многим: тогда бы Множество предшествовало Единству. Следовательно, Единство, Равенство, Связь — одно, триединство, которое познал уже Пифагор и которому учит христианство. Единство (unitas) есть вместе с тем и Сущность или Бытийность (entitas). Поэтому Равенство, являясь равенством Единства, есть равенство Бытийности и свидетельствует, что Сущее или Абсолютное Тожество не может быть ни большим, ни меньшим. Значит, Равенство только самоповторение Единства или: Сущее порождает — Равенство, как равенство Себя самого. Но только однократное самоповторение Единства дает Равенство или Себя самого, а потому рождение однократно и вечно. Что касается Связи, то она может быть только единением между Единством и Равенством Единства. К тому же учению о Триединстве приводит Кузанца анализа Божества, как абсолютной Мощи (Posse Ipsum), как Любви (Любовь любимая — любящая — связь обеих) и как движущей или созидающей, (causa efficiens), формальной и конечной причины всяческого.
Триединство, устанавливаемое с необходимостью, не является для Николая Кузанского только богословскою
Стр. 131
идеей — не даром его рассуждения так многообразно отразились в системе Бруно. Кузанец ставит Триединство в связь с миром, считая сведение вскрытых им различий (но не сами различия) к различию Лиц Отца, Сына и Духа уместным только по отношению к мирут к тварям — «creaturarum respectu». Сын называется сыном, как Равенство Единства или Бытия, как Равенство бытия вещей, вне или ниже которого вещей быть не может, как Равенство бытия вещей» которые Бог мог создать, хотя и не создал от вечности. Рождение Сына Отцом и есть творение всего в Слове. И «тварь начала быть из того, что Бог-Отец; усовершается из того, что Он — Сын; из того, что Он — Дух Святой, согласуется всеединому порядку вещей». Таким образом, неслиянность трех лиц (как Лиц) обосновывается лишь в порядке домостроительства. — Анализ идеи Божества в Себе недостаточно мотивирует ипостасные различия, непонятные, как мы видели, и для Бруно. Hecлиянность Ипостасей, мог бы сказать Кузанец, ясна в единстве системы, тем более, что в ней бытие мира, по крайней мере Божественности его, не является акциденцией Божества.
Бог все, — но все в единстве неразличенности, в абсолютной простоте, что не должно пониматься, как бесплодное единство или потенция. Чтобы обозначить такое единство, Кузанец употребляет термин «complicatio» или «свернутость», позволяющий мыслить актуальную полноту единства не как рвущуюся в развернутость, но как самодовлеющую и актуально заключающую в себе все: «Deus complicite est omnia». Но Он — ничто из существующего в отдельности или развернутости; «Deus est nihil omnium». Он не развернутость, «ехplicatio», а свернутость, «complicatio», не компликация, как результат объединения экспликации, а как совершенно-актуальная и первичная компликация, в которой нельзя и мыслить экспликации, хотя она и является ее принципом. Это возможно только в том случае, если экспликация есть умаление бытия, что невозможно в Боге. Всякая вещь находится в Боге, но не в зависимости своей, т. е. в отъединенности, обо-
Стр. 132
собленности, а комплицитно, и в этом отношении она есть сам Бог и тожественна другим вещам, будучи в то же время и самою собой, «Божественная Сущность есть всех сущностей простейшая сущность, и все сущности вещей, которые суть, были или будут, всегда действием (actu) и вечно суть в ней сама Сущность. И так все сущности суть сама Сущность всех; а сама Сущность всех так есть некая, что Она вместе все и ни одна в единичности. И сама Величайшая Сущность — соответственнейшая мера всех сущностей, как бесконечная линия — соответственнейшая мера всех линий». Но — на этом надо неустанно и со всею энергией настаивать — в Боге всякая вещь, в с я к о е бытие актуально, а не потенциально.
Что же тогда мир? — «Все существующее в тварном мире эксплицитно есть мир». Если Бог — «complicafio omnium», мир — «explicatio omnium». Бог — единство; мир — множество. Бог — единство, мир — различенность. Но если бы мир был полною, чистою различенностью, не было бы соответствия между идеей и действительностью. Можно даже показать, что тогда не было бы мира. Поэтому лучше назвать мир единством второго порядка, т. е. относительным, или единством стяженным во множественности, «unitas contracta in pluralitate». Во всяком случае, мы должны различать в мире две стороны: реальную (иначе его бы и не было) эксплицитность и реальную же, но «стяженную» комплицитность, в качестве стяженной (а не абсолютной) требующую эксплицитность. Таким образом, развернуто и стяженно мир то же самое, что Бог абсолютно. Он так же наибольшее, но как наибольшее-стяженно, — ограниченное, относительное, тварное. Он бесконечен, но бесконечен стяженно, т. е. не оконечен чем либо иным и, замкнутый в себе, не абсолютно безграничен. Развертывается же мир, как иерархия родов, видов, индивидумов, причем род реален в видах и индивидуумах, вид в индивидуумах. И отсюда понятно, что в каждом индивидууме стяженно заключается всеединство и сам он есть всеединство, являющееся им самим в стяженности и ограни-
Стр. 133
ченности. Все во всем и каждое в каждом. И все и каждое комплицитно и абсолютно в Боге и Бог; и Бог эксплицитно и стяженно во всем и все.
Николай Кузанский отчетливо различает Бога, как комплицитность и комлликацию всяческого, мир, как стяженную комплицитность всяческого, и мир, как эксплицитность, соотносительную его комплицитности. Грань между Богом и миром необходима и без нее необъяснимо умаление бытия. Поэтому в мире надо различать, с одной стороны, его Божественность, с другой — приемлющую эту Божественность тварность, которая вне приятия или причастия не существует, ничто. И никоим образом нельзя считать Кузанца пантеистом, как неуместно применять к нему и эпитет теиста. Еще менее уместен свидетельствующий о скудоумии своих изобретателей термин «панентеизм».
Понимание Бога, как свернутости всего, и мира, как развернутости, необходимо и неизбежно. Однако, «образ» того и другого непонятен. В связи с этим Николай Кузанский и получает полное право настаивать на тварности мира, разумеемой им не в элементарных категориях теизма и пантеизма. Вселенная сотворена, и творение не Бог, а с Ним разносущно. Отношение твари к Богу таково же, как отношение следствия к причине: заключаясь в причине, следствия не суть она; таково же, как отношение всех чисел, из которых каждое — единство, к единице, их в себе заключающей. Вселенная сотворена Богом не из предвечной материи — материя лишь возможность, а из ничего. Все существующее, как иное, возникает после небытия, а потому не вечно. Ведь небытие предполагает бытие и отрицает бытие. Предполагаемое им (абсолютное) бытие предшествует ему; отрицаемое (относительное) следует за ним, т.е. возникает после него, после отрицания или не вечно. Возвратимся к понятию Возможности. Надо различать: 1) возможность соделавать (posse facere), 2) возможность соделаваться (posse fieri), 3) возможность быть соделанным (posse factum), Первая, предполагаемая уже второй, как вторая третьей, не
Стр. 134
может быть созданием и есть абсолютная или действующая, формальная и конечная причина всего. Она термин и предел второй, а потому и третьей. В ней все, что может соделаваться, и все, что соделано, а она во всем, как абсолютная причина и причиняемом. «Возможность соделаваться — то, что соделано во всем соделанном». Она — потенция, необходимо предшествующая актуальности. Как сущность, она не отлична от третьей, хотя и предшествует ей, но отлична от первой, которая не сущность, а причина сущности. «Поэтому и говорят, что возможность соделаваться соделана из ничего. И мы признаем сотворенною из ничего возможность быть соделанным, а не соделанное, так как произведена она чрез возможность соделавать».
Итак, мир или вселенная создан Богом из материи, а материя из ничего. Это положение для Николая Кузанского вполне совместимо с учением о том, что мир есть Бог в Его развернутости и стяженности. Оба ряда мыслей представляются исключающими друг друга, но мы обязаны признать, что для Кузанца они вполне примиримы, непонятность же этого должно возвести к непостижимости образа отношения между Богом и миром и происхождения второго. Однако, не всякий обладает «постижением непостижимым», и «docta ignoratia» автора излагаемой системы, и следует отметить возможность двух ее истолкований: пантеистического и теистического или креационистского, из которых ни одно не является адекватным.
Созданный Богом мир представляет собою единство множества. Но для того, чтобы существовало оно» необходимо число, без которого исчезнут различия и порядок, пропорциональность и гармония вещей. В силу этого обстоятельства, поскольку мы говорим о принципах мира, невозможно бесконечное увеличение или уменьшение чисел и должны существовать реальные «максимум» и «минимум», что, как мы знаем, одно и то же. Иначе мира не будет. — «Necessarium est in numero ad minimum deveniri, quo minus esse nequit, uti est
Стр. 135
unitas». Таким образом, мы опять приходим к «минимум», как принципу числа и мира. Для того, чтобы организовать или упорядочить мир, эксплицировать себя в мире, точка становится границей линии, линия — границей поверхности, поверхность — геометрического тела. Этим создана возможность измерения, но еще не создан о измеряемое. Точка неделима, не обладает величиной и сама пространственности создать не может. Для этого необходима материя, изменчивый субстрат становления. Благодаря материи точка, эксплицируясь или повторяя себя, но оставаясь тою же самой точкой, создает пространственную линию: материя обусловливает различия последовательных становлений точки.
Отсюда легок переход к реальному миру, собственно говоря, уже совершившийся в факте материализации и экспликации точки. — Непрерывная материя делима реально, но это деление не бесконечно. В конце концов, мы приходим к реально неделимым «атомам». Мысленно мы можем делить до бесконечности, беспредельно, но реально, «actu», мы дойдем до «атома» или «quantitas ob sui parvitatem actu indivisibilis». Эти атомы и суть различные, благодаря изменчивости материи, становления единой и остающейся единою точки. Но атом не прост, а сложен, неоднороден: в мире простое, как показывает наблюдение, существовать не может. Точка — простое, но она постигается только умом; познаваемая разумом линия уже не проста, реально же в мире дана сложная поверхность, воспринимаемая чувственно. Но и поверхность не может существовать сама по себе. Она нуждается для определения своего в трех точках, если брать ее в простейшем виде. Для того же, чтобы она существовала, нужна четвертая точка, завершающая тело. Следовательно, существует 4 элемента мира, которые не даны в отдельности, но слагают все тела.
Таким образом, самоповторение неизменной в нем точки благодаря изменчивости материи становится «экспликацией» минимума в мир. Точно также единый момент эксплицируется
Стр. 136
во время, а покой — в движение, последовательно раскрывающее его состояние. Следует заметить. — Говоря об изменчивости материи, Кузанец не предполагает, что эта изменчивость и есть причина или принцип множественности атомов, текучести времени и движения, своего рода хранительница форм. Многообразное дано в самоповторениях минимума, но в них оно комплицитно; материальное же бытие не может сразу вместить это комплицитное многообразие, а потому разлагает его на атомы, течение времени и движения. Это бессилие вместить и есть изменчивость или сама материя, как вечная потенциальность. «Из того, что Ум Божий одно понимает так, другое — иначе, возникла множественность вещей», не постижимая по Божески для изменчивого, материального бытия.
Изменение или движение, соответствуя Духу Святому, связующему в Божестве абсолютную потенцию и абсолютную актуальность, является принципом единства мира. Природа — «quasi complicatio omnium, quae per motum fiunt». Отсюда — необходимость движения вcex тел в мире, но движения относительного, ибо мир, не обладающий каким-нибудь неподвижным центром, сам в целом не движется. Отсюда взаимная связь и взаимовлияние всех тел мира, выражающиеся в их, тоже относительном взаимотяготении и позволяющее Кузанцу выяснить смысл веса. Отсюда же понимание связи жизни и смерти, круговорота бытия.
Если задать себе вопрос о причинах творческого акта Божества, то можно указать лишь одну — Божью Благость, — Идея благости предполагает кого-то иного, на кого эта благость изливается, т. е. тварь. Смысл же творения разъясняется, как самооткровение Божества. Но самооткровение может быть полным и неполным. К допущению первого склоняет все, что Кузанец говорит о мире, как развернутости Бога; к допущению второго все то, что заставляет признать мир творением из ничего, восприятие его относительности. — Мир сотворен и не вечен; являя собою вечность, будучи ее отображением, он являет ее стяженно, в форме времени,
Стр. 137
которое начало быть, а, если бы не начинало, то и не было бы временем. Мир сотворен из ничего и ограничен или безграничен лишь отрицательно, как не ограниченный чем то иным. Он не может быть больше и меньше, чем есть, однако, не абсолютно, а относительно — в отношении к ограниченной по самому понятию своему материи или потенции тварной действительности. Он ограничен, как начавший (нет необходимости принимать временное, хронологическое начало) быть, и должен, казалось бы, кончиться. Однако, последнее предположение следует отвергнуть, В самом деле, границы и цель или конец «posse fieri» или материи заключаются в «posse facere» или Боге. Допустим, что наступит конец мира. Тогда вся материя (потенция) актуализируется, т.е. перестанет существовать как материя, получив определенность. А как может исчезнуть «posse fieri», раз остается абсолютный предел его и причина «posse facere?» Следовательно, мир не уничтожится и, значит, он бесконечен. Но если материя бесконечна, не следует ли признать ее и безначальной? Николай Кузанский мог найти обоснование такого взгляда в сочинениях известного ему Эриугены, которого он называет «Scotigena». Эриугена склонен был понимать материю, как аспект Божества, и под творением из ничего разуметь творение из Бога, И, несомненно, Эриугену напоминает Кузановское различение в Божестве творения и творимости: в Боге творить то же самое, что быть творимым (сгеаге = creari). Однако, Кузанец, развивая эти соображения, различает Бога и внутри-божественный процесс творения-творимости, т. е. самопроявления Бога во всем, от призвания всего, в чем Он проявляется, к бытию из ничего. Материя, как чистая и относительная возможность (posse), одинаково отлична от Бога, как возможности-действительности (Possest) и как абсолютной возможности (Posse Ipsum).
Существо чрезвычайно тонкой и сложной, подающей своими отдельными выражениями повод к односторонним толкованиям мысли Кузанца, на мой взгляд, заключается в следующем. Как и Эриугене, мир представляется ему само-
Стр. 138
раскрытием Божества или теофанией и во всеединстве своем и в каждой отдельной сущности, которая именно в силу этого является микрокосмосом. Кроме Бога, нет и не познается ничего, а потому мир лишь «explicatio Dei» и можно говорить о том, что Бог творит Себя самого, «creat et creatur», что Он — Отец в качестве материи, Сын — в качестве формы, Дух — в качестве связи или единства всего. Но при этом надо иметь в виду, что Бог познается и раскрывается не в Себе самом, а в сотворенной Им из ничего материи. Материя и созданный из нее мир — ничто, возникшее волею Божией из ничего же. Однако, это ничто становится нечто, когда воспринимает Бога и делается теофанией. Таким образом, в несуществующем само по себе и неуловимом потому никаким познанием творении является непостижимый сам по себе Бог, и является в меру принятия Его тварью, т. е. неполно, как «unitas contracta in pluralitate». Без творения Божество не открылось бы и не было бы Благостью, но творение обусловливает в силу начальности и следовательно ограниченности своей неполноту Богоявления, и в относительности творения основание того, что истинная комплицитность Божества, всегда остающаяся сама собой и не нуждающаяся в противоположном, отображается двояко: как относительная или стяженная комплицитность тварного бытия и как соотносительная ей эксплицитность, как «transfinitum» и «indefinitum». Если так, то самооткровение Бога в мире неполно, а оно должно быть полным, ибо иначе Бог не есть Благость. Поэтому необходимо мыслить какую-то высшую категорию бытия мира, его обожение, не достижимое силами самой твари, но осуществимое нисхождением в мир Божества.
Итак, мир — подобие и образ Божества и в составе своем, как отражающие Триединство материя, форма и связь, и в трех родах находящихся в нем творений: в чистых духах — почти полной актуальности и оформленности, в вещном бытии — почти полной потенциальности или материальности, в человеке — относительной уравновешенности (связи) актуальности и потенциальности, формы и материи.
Стр. 139
Человек занимает в мире центральное положение, соединяя в умной и разумной душе своей высшую, т. е. включающую в себя все телесное, ступень телесного мира и низшую ступень духовного, связуя земное с горним, В особенном, преимущественном смысле он является микрокосмосом и тварным образом Божьим, вмещая в себе, подобно Богу, весь мир, но только в его стяженности. И прежде всего Николай Кузанский имеет в виду всего человека: как род или человечество, как, пользуясь термином Каббалы, Адама Кадмона, который, однако, не существует отдельно, но реален лишь во всех индивидуумах, целостно находясь в каждом из них. Душа индивидуума (тут уместны те же соображения, что и в применении к человеку вообще) есть «дух», «mens», «некое Божественное семя», мейстер Эккехарт сказал бы — «искорка». По отношению же к телу душа — образующий и оживляющий его принцип, субстанциальная форма или собственно «душа», вездесущая в теле подобно единице в числе. Она относится к телу как комплицитность к эксплицитности, и воздействует на него посредством тонкого духа. Она в качестве души индивидуальна и творится Богом, а не порождается другими душами на подобие того, как тело рождается от тела. В качестве духа она самодвижная «умная» жизнь, собственно говоря, — даже не движение, а мера и принцип всякого движения, нечто его превышающее. Дух познает неизменные и вечные формы и, как приемлющий вечное, как стоящий выше начала умирания, — движения, бессмертен. Он заключает в себе понятия или идеи, «подобия» всех вещей, и отображает Бога, заключающего в себе истину их. Но, как уже указано, не следует считать эти «подобия» отдельными от вещей и от истины вещей. Если теперь мы вспомним, что ум или интеллект, в системе Кузанца невольно отожествляющийся с духом (mens), не относится подобно разуму к чувственному, и обратим внимание на функцию духа и обоснование бессмертия «духа», а не «души», мы подойдем к возможным, но опасным для ортодоксии святого кардинала Апостольской Церкви вы-
Стр. 140
водам. Именно — появляется искушение, во-первых, отожествить дух и ум с деятельным интеллектом зверроистов, признав его всеобщность (ведь индивидуальное бытие доказывается только применительно к «душе»), а, во-вторых, — отрицать бессмертие души, т. е. индивидуальное бессмертие. Такие выводы, по-моему, будут неправильны: надо не забывать идеи комплицитности; тем не менее, они возможны и сыграли свою роль в развитии кузанской философии.
Но как возможно центральное положение Человека и его значение в целом тварного всеединства, особенно ярко выясняемое завершающим систему Николая Кузанского учением о Богочеловеке? Оно кажется тем необъяснимее, что Кузанец отрицает Птолемеевскую теорию мира и учит о вращении земли подобно другим небесным телам. Однако, отвергая центральное положение земли, Николай Кузанский отвергает и существование пространственного центра мира вообще. — Если допустить, что движущееся тело действительно достигнет центра, т. е. малейшей точки, надо будет, по учению о maximum и minimum допустить, что оно достигнет вместе с тем и величайшей окружности; попав в Центр оно попадет и на периферию, т. е. охватит весь мир. Центр мира должен быть его периферией. А это невозможно, потому что тогда бы мир перестал быть «стяженным единством во всем». Истинный центр и истинная периферия мира Бог, а пространственно, эмпирически ни того ни другой нет. Таким образом, всплывшее перед нами недоумение отпадает. Но можно ли в этом случае говорить о центральном положении человека? — В пространственно-материальном смысле, очевидно, нет, так как вопрос отпадает. Но Человека следует рассматривать не только со стороны его материальности. Принципом его является дух. — «Стяженное единство» Должно, отображая Бога, явиться таким, чтобы нельзя было мыслить ничего большего и ничего меньшего. Однако, ограниченное, в силу самой своей ограниченности, не может стать Действительно наибольшим и наименьшим. Ограниченное или стяженное наибольшее невозможно, а истинно и действи-
Стр. 141
тельно наибольшее, т. е. Бог в Его абсолютности, чуждо ограничению. Поэтому, чтобы мир истинно отразил Бога, необходимо соединение бесконечного с конечным, т. е. Богочеловечество, так как именно в Человеке, а не в ангелах и не в материальных вещах, дано единство и связь духовного с материальным, объединено все сущее. Идея Богочеловечества — в связи нашего изложения нам нет нужды углубляться в детали и обоснование теории — завершает собою систему Николая Кузанского, примиряя эмпирическую неполноту самораскрытия Божества в твари с требуемой Благостью полнотой этого раскрытия путем обращения к сверхъестественному факту обожения.
Николай Кузанский оказал громадное влияние на развитие дальнейшей философской мысли и тем, что дал синтез достижений схоластики и тем, что высказал ряд новых гениальных интуиции. Он — подлинный завершитель Средневековья и родоначальник новой философии, недостаточно оцененный еще и доныне. Но непосредственных учеников он оставил немного. С большими оговорками можно к ним причислить Ж а к а Л е ф е в р а (Jaques Lefevre dъEtaples, Jacobus Faber Stapulensis, 1455-1537), издателя сочинений Кузанца и профессора в Сорбонне, и Б у л ь е или Б о в и л л я (Charles Bouillee, Carolus Bovillus ок. 1470-1553), ученика Лефевра, Собственно говоря, настоящим последователем Кузанца, воспроизводящим; хотя и в измененном виде, основную схему его учения, является лишь Бруно. Тем значительнее косвенное и частичное влияние кузанской философии, поддерживаемое возрождением платонизма.
15. Гуманистическая культура Италии эпохи Ренессанса влекла к Платону, художественная форма произведений которого так выгодно отличала его от Аристотеля и средневековых схоластиков, особенно последнего периода. Но в этом заключалась лишь одна из привлекательных сторон платонизма, а вернее новоплатонизма, потому что Платона продолжали воспринимать и понимать чрез посредство
Стр. 142
подлинных завершителей его философии, новоплатоников. И, как показывает система Николая Кузанского, конгениального Плотину, и влияние ее, новоплатонизм соответствовал глубоким потребностям духа, неудовлетворяемым схоластикой и возрождавшимся аристотелизмом, тем более, что имя Аристотеля сплелось со школьной средневековой наукой, а гуманисты, опознавая себя в опознании античности и мира, стремились занять боевое положение и противопоставить свою новую философию прошлой и господствующей. Платонизм, если и не давал, то указывал выход из того отрицания достоверного знания, к которому пришла поздняя схоластика. Уже в силу одного этого он был жизненным направлением, открывавшим еще неиспробованные или давно заброшенные философскою мыслью пути, делавшим своих представителей восприимчивыми к идеям Николая Кузанского или способными к развитию аналогичных им построений. Он обосновывал умозрение, как метод мысли, отличный от рационального познания и высший, чем оно, сближаясь с религиозными и мистическими течениями эпохи, привлекая некоторой расплывчатостью и туманностью своих исканий. Наконец, в новоплатонизме было синтетическое устремление, предъощущающее с самых первых шагов единство мироздания, в созерцании которого сливаются в одно целое философская и эстетическая интуиции. Аристотелизм дискурсивен, дробит и разлагает целостность жизни до утраты самого ощущения ее целостности, подменяемого мертвой рационально-логической схемой. И как в религии перипатетическое богословие привело к противопоставлению воли и благодати, дел и веры, к юридическому формализму и индульгенциям, вызвав протест целостного религиозного сознания в Лютере и… возвращение Лютера к Аристотелю, так и в области философии учение последователей Стагирита, ставило аналогичные проблемы. Их обещал решить платонизм. И в этом отношении важнее и действеннее не форма его, не конкретное содержание, а его синтезирующий, всеобъемлющий, истинно-философский дух. Дело шло не о простом воспроизведении си-
Стр. 143
стемы Платона или Плотина, а о том, чтобы силою платонического эроса связать и объединить разрозненно растущее богатство знаний, использовав и приобретения схоластики, и аверроизм, и возрождаемый чистый аристотелизм, и забытые учения Гераклита, Эпикура, стоиков. Таков был завет Платона, вобравшего в свою философскую систему все, чего достигла предшествующая эллинская мысль, примирившего Гераклита с Парменидом.
С половины XV в. в Италии пробуждается оживленный интерес к Платону. Флорентийский собор (1439) усилил прилив ученых греков в Италию; на нем появился и убеленный сединами величавый старец Г е о р г и й Ге м и с т П л е т о н (1355—1464), крупнейший представитель возрождавшегося в Греции новоплатонизма. Он открыл флорентийцам тайны и красоты великого учителя и положил начало оживленной и бранчливой полемике между греками платоновцами и аристотелевцами. Но итальянцы ее мало понимали и еще менее ей сочувствовали. Им более пришлась по сердцу деятельность ученика Плетона кардинала В и с с а р и о н а (1403 — 1472), пытавшегося примирить и согласовать учения Платона и Аристотеля. Такое примирительно-синтезирующее направление лучше соответствовало и духу новоплатонизма и духу Ренессанса. Почти на глазах приехавшего умирать в Италию Николая Кузанского поднялась покровительствуемая Медичи «Платоновская Академия». Ее глава М а р с и л и о Ф и ч и н о (1433-1499), переводчик и популяризатор Платона, Плотина, Ямвлиха и Прокла, окончательно утверждает начатое Виссарионом течение философской мысли. Задача философии понимается им, как всеобъемлющий синтез, в котором христианство согласуется с Плотином и Платоном, понимаемым по новоплатоновски, с Аристотелем. В этот синтез вовлекаются идеи Пифагора, Гермеса Трисмегиста, Зороастра и, благодаря П и к о д е л л а М и р а н д о л а (1463-1494), Каббала и магия.
Возрождение платонизма не дало оригинальных систем, но оно сделало не меньшее: популяризировало учения Платона
Стр. 144
и новоплатоников, в превосходных переводах Фичино распространило знакомство с ними. Воодушевленные призывы Фичино и Пико расширили круг их соплатоников и увлекли ученых далекой Германии: Р е й х л и н а (1455-1522), подобно Пико, тяготевшего к Каббале и пифагорейской мистике чисел, Агриппу Неттесгеймского (1484-1535), мистика, фантаста и почитателя Луллия. Пронеслась Платоновская волна и во Франции: следы ее заметны на Л е ф е в р е и Б у л ь е ; в XVI в. Л е ру а (Regius 1510-1577) и Де Серр (De Serres, 1540-1597) дают переводы Платона. Платонизм проникал в самое стихию философствования, в значительной степени новоплатоновского уже в Средние Века; и не надо даже было читать самому произведения Платона или Плотина, чтобы повторять и развивать их идеи. Новоплатонизм продолжал жить и воздействовать 8 аверроизме, признанным центром которого с XIV и до XVII в. является Падуанский Университет. После П и е т р о д”А б а н о (ум, 1316) и У р б а н а Б о л о н с к о г о (ум. в 1405) крупными последователями «Комментатора» считались Н и к о л е т т о В е р н и а с (ок. 1500 г.), А к и л л и н и (ум. 1518), особенно же А г о с т и н о Н и ф о (1473-1516) и профессор в Падуе в год заключения Бруно Ф р а н ч е с к о П и к к о л о м и н и (ум. 1604), склонявшиеся к идее примирения Аристотеля с Платоном. Еще в 1496 труд аверроиста Паоло из Венеции «Summulae logicae» был признан оффициальным руководством по философии; в 1472 году в Падуе же вышло первое издание Аверроеса. Но возрождению аверроистического Аристотеля противостояло новое течение в среде перипатетиков: в той же Падуе некоторое время преподавал П и е т р о П о м п о н а ц ц и (1462-1524), глава «александристов», т.е. последователей древнего комментатора Аристотеля Александра Афродисийского. Он сам, нашумевший своим отрицанием бессмертия и духовности души, чудес, ангелов к демонов, и его ученики С и м о н е П о р т а (ум. 1555), Ц е з а р ь С к а л и г е р (1484-1558) и другие еще резче, чем аверроисты, отстаивали теорию двойной истины.
Стр. 145
Впрочем, не следует преувеличивать различий между аверроистами и александристами; чем далее, тем больше сливались оба течения с преобладанием в учении о душе, одной из главных проблем XVI века, александризма, в натурфилософии -аверроизма. Сюда следует отнести и К о н т а р и н и (ум. 1542), и Ц а б а р е л л а (ум. 1589), и К р е м о н и н и (1552-1671). Без комментаторов подойти к Аристотелю стремится А н д р е а Ч е з а л ь п и н и (1519-1603), врач Kлимента VIII.
Философское значение всего этого возрождения разных видов аристотелизма весьма не велико. Учение Аристотеля и в схоластической, и в аверроистский, и в новых формах, скорее всего, было той необходимой почвой, от которой чувствует потребность оттолкнуться философия Возрождения. Мыслителям гуманистам, несмотря на гармонистическую тенденцию их философии, а, может быть, именно в силу нее, нужна была полемика, нужны были противники — старые системы, подчеркивающие новизну обновителей знания. Такою старою системою был аристотелизм, таким общепризнанным врагом — Стагирит. Но, с другой стороны, и в аристотелизме, пытавшемся удержать свое былое величие, наблюдаются тенденции новой философской мысли. Одна из них — то же, что и у новоплатоников, стремление к гармонии и согласованию противоположных систем. Так падуансккй профессор Леонико Томео (1456-1563), полагает, что в основных положениях Аристотель и Платон друг с другом согласны, а видимость противоречия создается лишь разными способами выражения одной и той же мысли, склонностью Аристотеля к «физике», да еще плохим истолкованием творений Стагирита у большинства комментаторов. И Томео, как мы уже знаем, в этом отношении не одинок. Не менее существенно внимание к проблемам гносеологии. И если Помпонацци, оспаривая аверроистскую идею единого деятельного интеллекта, потрясает основу объективности и общезначимости знания, большинство отстаивает мысль или о Божественности ума или о причастии его Божьему Уму,
Стр. 146
в котором говорит «последний аристотелевец Италии» Кремонини, объект и субъект знания совпадают. Для Чезальпини человеческий ум или дух (mens), хотя, как несовершенный акт, и (Множественный, Божественен, и, следовательно, родственен Божьему созерцательному Уму. Чезальпини ясны необходимость какого-то взаимопроникновения «интеллектов» и существование Божьего Интеллекта или Ума, который, «отделенный от всякого противоречия, содержит, умопостигая себя самого, умопостижение прочих нисходящих от него актов», т. е. умов, либо умопостижение им самого себя есть умопостижение всех, как — белизны всех цветов». Если бы умы или интеллекты не постигали друг друга, не было бы единства, А единство, с точки зрения Чезальпини и необходимо и объективно-показуемо. Он считает недопустимою мысль, будто вселенная является лишь внешнею, механическою совокупностью субстанций: тогда бы она не была вселенной, не существовала.
Вселенная, по представлению Чезальпини, живое, одушевлeнное целое, организм. Его движет и ее объединяет вселенская душа, тожественная Божьему Уму; и нет в мире субстанций, кроме одушевленных и частей одушевленного: «все причастно единой вселенной душе. Богу, и развитие вселенной направлено к единой цели извести из материи живые, одушевленные существа». Это развитие создает мир, как одушевленное целое, как организм. Естественно, что Чезальпини приближается к пантеизму и, «чистый» аристотелевец, к аверроистам. Мы без труда усматриваем в немуклон мысли родственный Кузанцу, хотя далеко не достигающий той же глубины, и еще более родственный Бруно.
Мелкое критиканство Помпонацци, его нападки на мировую душу, бессмертие и т. д., интерес к вопросу о душе у падуанских студентов, прерывавших профессоров криками: «Anima! Anima!», свидетельствуют о значении затронутых нами сейчас проблем. Не об индивидуальной душе и ее бессмертии идет главный спор — кто думает об индивидуальной
Стр. 147
душе, тот, как многие венецианские патриции, рукоплещет успехам и остроумию Помпонацци. Проблема поставлена шире: в связи с единством мира и задачами мирообъяснения, в которое нечто вносит и Помпонацци, отвергающий чудеса, вмешательство духов, указывающий на звезды и обусловленную ими необходимость мирового процесса. Не лишено показательности для философских настроений эпохи его утверждение, что из чувственного мира не извлечь доказательств для обоснования бытия сверхчувственного. Однако, натурализм перипатетиков в целом отличается мистико-пантеистическим характером. И, может быть, не бесполезно отметить, что Чезальпини считает самым совершенным познанием то, которым мы постигаем самое чтотость (quid est). Как ни мистичен и ни теософичен натурализм, он сочетается с реальным тяготением к индивидуально-конкретному миру. — Якопо Цабарелла, учитель Кремонини, усердно изучает астрологию и Аристотелевскую физику; Чезальпини пишет систематический труд по ботанике, занимается минералогией, руководит ботаническим садом в Пизе. В связи со всем этим становится понятным возрождение стоицизма и атомизма античности.
Итак, аристотелизм вместе с новоплатонизмом обнаруживают основные тенденции эпохи, но философская мысль ее, по духу новоплатоновская, по навыкам во многом еще перипатетическая, чуждается односторонности и уже свя-зует свою судьбу с намечающимся расцветом естествознания, с именами Коперника, Тихо де Браге, Кеплера, скоро и Галилея.
Б е р н а р д и н о Т е л е з и о (1508-1586), столь ценимый Бруно, ставит себе целью описание того, как действует природа, и простейшее объяснение ее явлений. Желая основываться на опыте, отрицая авторитет и умозрение, он ведет и в сочинениях своих и в своей «Academia Cosentina» непримиримую борьбу с Аристотелем и перипатетиками, «выдумывающими» свой собственный мир вместо Божьего. Он, раз-
Стр. 148
рушая Птолемеевско-Аристотелевскую систему мира тем, что признает открытие Коперника, отвергает четыре элемента Аристотеля и старается заменить их найденными им двумя принципами: теплым, как началом движения, и недвижным холодным. Эти две силы своим взаимодействием и борьбою созидают мир, в котором все материально, но способно ощущать. Телезио верит в бессмертную душу, но отделяет философию от веры. Предваряя физиологию Бэкона и Декарта, он считает приципом животной жизни обращающийся в теле теплый дух (spiritus) и приближается к открытию кровообращения.
Телезио стремится быть чистым эмпириком. Изучение природы с мистическим ее пониманием соединяет Парацельс (Philippus Aureolus Theophrastes Bombast von Hohenheim, 1493—1341), «чудо врачебного искусства», но плохой философ, по мнению Бруно. Но так ли чужды идеи Парацельса духу и отдельным положениям системы Ноланца? — Созидая теорию медицины на теологии, философии, астрономии и алхимии, Парацельс центральным моментом своей системы делает учение о человеке, как микрокосмосе, методом — сочетание опыта, лживого без созерцания, с созерцанием, без опыта создающим лишь фантазии. Мир, макрокосмос, может быть познан только на основе знания о человеке, высшем создании Бога, ибо человек выполняет поставленную Богом творению цель: все познает и приводит к совершенству. Но, с другой стороны, и познать человека возможно только на почве знания о мире, что не противоречит первому положению, так как истинный философ познает одно в другом. Человек, центр и «пункт» всего, состоит из создаваемого элементами тела, из происшедшего из звезд тела астрального или духа и из создаваемой непосредственно Богом души. Поэтому в человеке дан и познаваем весь мир, все роды существ: животные, ангелы и элементарные духи воды (нимфы, ундины), земли (гномы, пигмеи), воздуха, (сильфы, лемуры), огня (саламандры, пенаты). Ясно — познание микрокосмоса есть познание макрокосмоса. Пара-
Стр. 149
цельс признает созданную Богом первоначальную безобразную материю, которая, как подлежащая мировому закону троичности, содержит в себе три духовные начала: соль, серу и ртуть. Они создают многообразный мир, сначала выделяя элементы (огонь и воздух, воду и землю), опять-таки духовные. Наконец, элементы, при посредстве находящегося в них «Вулкана» (мировой души), создают отдельные вещи. Нам нет надобности углубляться в теории алхимии и магии — эта «часть философии» Бруно наименее знакома и тюрьма прервала его начавшиеся занятия ею — и следить за частностями сочетающей наблюдение с фантастикой системы Парацсльса. Достаточно указать только на одно. — Он резко разграничивает философию, пользующуюся естественным светом разума в изучении «дел природы» и теологию, опирающуюся на веру и откровение и рассматривающую «дело Христа».
Отделения философии от богословия и свободы первой, но только для набранных (т.е. для себя) требует и другой представитель того же мистико-натуралистического направления — миланец К а р д а н о (1500-1576), требует, несмотря на некоторую зависимость свою от Николая Кузанского, Кардано, выдающийся математик и врач, умеет соединять острую интуицию с ребяческим легкомыслием. Подобно Парацельсу, он понимает бытие как всеединство, в котором все подчинено причинности и все связано симпатией и антипатией, притяжением одинакового и отталкиванием разного. Основанием этого факта является вездесущая, но непространственная мировая душа, живущая и темноте или (что то же самое) свете. Ей, как активной форме, противостоит пассивная материя, начало влажное, разлагающееся на три элемента: землю, воду, воздух. В мире нет ничего неодушевленного, но высшая одушевленность или «душа» присуща человеку. К душе же человека привходит дух, управляющий одушевленным телом через посредство тонкого жизненного духа. Духи в определенном числе созданы Богом, Поэтому Кардано связывает свое учение о бессмертии с теорией метемпсихоза,
Стр. 150
которая сочетается у него со стоической идей о периодическом восcтановлeнии всего в прежнее состояние.
Парацельс и Кардано переплетают наблюдение и эксперимент с блестящими интуициями и мистическими фантасмагориями, поражающими своей «романтической конкретностью». Кардано даже переживал видения и галлюцинации. Но оба они проникнуть: живым ощущением единства космоса и органической связи между природой и человеком, и оба сосредоточиваются на мире, не захваченные богопознанием. «Свобода» философии уже скрывает в себе равнодушие к теологии. Напротив, пантеистические мотивы звучат в системе Патрици, просившего папу сделать его философию обязательной для всего христианского мира вместо аристотелевской.
Ф р а н ч е с к о П а т р и ц и (1529-1597), питомец Падуанского университета, профессор в Ферраре и Риме, обусловлен в своем философском развитии главным образом новоплатониками, частью — Телезио. — Предметом философии является мир, отблеск Первосвета, одушевленное и стройное целое. Высшее Начало есть истинное Всеединство, «Unomnia», в котором все находится неразличенно и которое изводит из себя Второе, уже не «unum», а «unitas»» ибо в нем все дано различенно. Первое и Второе делаются вновь Единым силою Третьего или Любви, как о том учат Зороастр, платоновцы и христиане. При этом Патрици не думает о примиримости подобного утверждения с христианской догмой — Всеединство не Ум, а выше Ума или Жизни, т. е. Второго, а Второе выше Духа или Третьего. Из Духа, как из «Второго Ума», истекают умы, из них души, далее природы, качества, формы, тела. Таким образом, получается повторяющая новоплатоновскую, совсем не христианская (кардинал Беллармин был прав) иерархия эманаций, составляющая мировое целое, которое движимo и живет, материальное и пассивное, деятельностью мировой души. Условием материального бытия мира является первый эле-
Стр. 151
мент вещей — пространство. К нему, в качестве второго элемента присоединяется теплое начало или свет, некоторая субстанциальная форма, среднее между формой и материей. Однако, надо различать эфирный свет «теплого» светящегося неба, стягивающийся в солнце, бестелесный свет в душах людей и животных и возвышающийся над ними обоими свет Отца. Пространство, свет с теплым и жидким началами создают единое мировое тело, нечто непрерывное и распростирающееся в бесконечность, но разделяющееся извнутри кнаружи на области земли, воздуха, эфира, неба, и огневого неба со стяжениями пламени в виде движущихся, как птицы по небу, к вращающихся вокруг своей оси звезд и планет. Особняком стоят солнце, вокруг которого согласно с учением Коперника обращается земля, и отвердевшая и потемневшая луна.
Все они — и Телезио, и Парацельс, и Кардано, и Патрици — интересны для нас еще в одном отношении. — Со вниманием к природе и уменьем пристально вглядываться в окружающий мир соединяется у них внимание к своей собственной личности и переходящее иногда всякие границы сямомнение. Кардано достигает в своей «De vita propria» истинно-художественной конкретности и индивидуализованности изображения, но, не довольствуясь этим, во всех своих сочинениях щедро рассыпает автобиографические заметки. Он верит в свой гений, сознает свою оригинальность, не устает говорить о своих открытиях, предчувствиях и видениях. И он не ограничивается рассказом, а погружается в самоанализ, поражающий тонкостью, старается объяснить себя как индивидуальность из основных свойств своей физической и духовной природы, наследственности и констелляции звезд в момент его появления на свет. Перед нами не только личность, а и ученый исследователь, аналитик, охватывающий единым воззрением и себя и весь мир. Вместе с расцветом естествознания зарождается и новая психология. Конечно, она связана со средневековой, со схоластикой, особенно с мистикой. Но в ней всплывают и новые точки зрения. Во-
Стр. 152
первых, она учитывает индивидуальность душевной жизни, ее конкретное многообразие и ограниченность; во вторых пытается уловить связь данной индивидуальности со всем окружающим миром, И с новой силой встает проблема индивидуальности в ее отношении к всеединству.
Такова среда, в которой выростала система Еруно. Его философское развитие и определившие это развитие прямые влияния можно наметить лишь в главных и общих чертах. Почвой, вскормившей ноланскую философию, был перипатетизм св. Фомы, когда-то учившего в том самом монастыре, который принял Бруно. К влиянию же томизма и аристотелизма рано присоединилось увлечение Джиордано идеями Луллия. Но еще в неаполитанский период своей жизни Бруно проникaeтся анти-аристотелизмом и натурализмом Телезио и, может быть, через посредство его сочинений, во всяком случае — еще «в нежной юности», впервые знако-мится с системой Коперника. Это было решающим моментом. Открывающаяся в учении Коперника система мира стояла в peзком противоречии и с физикой Аристотеля и с традиционным антропоцентрическим и геоцентрическим христианством, подрывая, казалось бы, правдивость Священного Писания. К сожалению, мы можем лишь гадать о том, что произошло в сознании Бруно и с какими еще учениями ознакомился он за период своей монашеской жизни. Вероятно, натурализм Телезио привел его к Эпикуру и Демокриту с их «нечестивыми атомами». Но мы не знаем, в Италии ли или уже во время своих странствий испытал он воздействие идей Кардану и Парацельса; не знаем и того, когда и как новоплатонизм пришел на смену атомистически-механистическому мировоззрению. Платоником был Бруно в Тулузе, читая «О душе» и совершенствуя луллизм; но к подлинному источнику новоплатонизма» надо полагать, приблизился он благодаря сочинениям Булье и Лефевра уже в Париже: они сделали его yчеником Николая Кузанского, а его дальнейшее философствование — процессом освоения системы Кузанца
Стр. 153
и попыток синтеза ее с тем, что он знал, узнавал и смутно чувствовал, как индивидуальное свое.
А знал Бруно, судя по обилию цитат и заимствований, много. Однако, он совсем не эклектик, дорожа своей самостоятельностью и расценивая свои авторитеты, ссылаясь без оговорок лишь на тех, чье учение дошло до него в скудных фрагментах и темнотой выражений делало легким желательное его истолкование. Так, платоновец по духу, Бруно порицает Платона за то, что Платон, стремясь быть оригинальным, исказил учение Пифагора, и за то, что он вместе с «беднягой Аристотелем» отделяет идеи от материи, выдумывая фантастические, нереальные сущности. Ноланец смело берет под свою защиту пантеизирующий стоицизм, Демокрита и Лукреция, указывая, однако, на односторонность последних. Гeниальный Луллий «болтлив» и сам не понимает гениальности своей идеи. Коперник и Парацельс — плохие философы. Даже Кузанец, «единственный творческий ум из дышавших нашим воздухом», «доступный и понятный тем меньшему числу, чем он глубже и божественее», подобен мореплавателю на бросаемом волнами корабле. То он вздымается на гребень волны, то низвергается в пучину. Он не преодолел всех ложных идей, в которых его воспитали, и духовная одежда помешала ему быть вторым Пифагором.
Такая самостоятельность предполагает некоторые основные тенденции философствования Бруно. Частью это тенденция эпохи, частью его индивидуальные. Вторые должны нам раскрыться в анализе «ноланской» системы, первые могут быть намечены уже теперь.
Средневековье поставило и начинающий возможную, но не осуществившуюся еще новую философию завершитель его Николай Кузанский в главных чертах разрешил ряд основных гносеологических и метафизических проблем, около которых сосредоточивается философствование XVI в., преследующее и собственные свои задачи. В теории знания со всей остротой стояла проблема познания сущности, «quidditas», вещей и Бога.
Стр. 154
Потребность в таком познании оправдывала его, но теоретически оправдать его было труднее. Тонкая рационалистическая диалектика скотистов и номиналистов дискредитировала рационализм, доверие к разуму, превращая разумное познание в занятную и увлекательную, но бесплодную и оторванную от действительности игру понятиями. Чувству довериться было нельзя: чувственный опыт, очевидно, не способен дать знание, особенно же знание рациональное. А в то же время в этом чувственном oпыте уже усматривалась своя ценность, осложнявшая проблему. Не «чтотость», а «этовость», не «quidditas» как нечто общее, а «haecceitas» как индивидуальное, влекла к себе. И старый спор реалистов с номиналистами перешел в новую фазу, а основным стал неразрешимый рационально вопрос о принципе индивидуации, «principium individuationis». Объект познания являл пытающемуся познать его свою иррациональность. И чем ближе подходили к миру, чем больше постигали его многообразие, тем яснее становилась его иррациональность, н тем необходимее было оправдать индивидуальное. А там всплывал и дальнейший вопрос, тоже обостренный номинализмом. — Не оторваны ли мы, рационально познающие, от мира и Бога, можем ли мы их вообще как-нибудь познать, да и существуют ли они? Не является ли знание наше в лучшем случае репрезентативным, а, следовательно, и не знанием, а нашим рациональным упорядочением несущихся в нашем же сознании наших же и только наших атомов — индивидуальных ощущений?
Очевидно, гносеологическая проблема обнаруживает свою Онтологическую природу. — В каком отношении стоят друг к другу знание и бытие, я, мир и Бог? Если в мире объективно нет общего, то возможно, что правы атомисты, как думал ученик Оккама Н и к о л а й д” О т р е к у р. А если мир лишь совокупность атомов, как объяснить его организованность и органичность, единство, по-видимому, не сводимое на случайность? Ведь возвращение к «закону» стоиков возвращает к Логосу, к гилозоизму досократовцев,
Стр. 155
к огню Гераклита и Уму Анаксагора, а все это отрицает атомизм и отрицание общего. Но возможно, как утверждал тот же Н и к о л а й д “О т р е к у р, что бытие внешнего мира недоказуемо, может быть внешнего мира вообще нет… Вспомним, что в 1580 г. в Бордо появились «Essais» М о н т а н я (1533-1592), и его скептицизм, приведенный в систему П ь е р о м Ш а р р о н о м (1541-1603), уже формулирован С а н х е ц о м (1562-1634), в основной мысли появившегося в 1581 г. «Tractatus de multum nobili et prima universali scientia, quod nihil scitur». — «Кажется также мне довольно глупым утверждение некоторых, будто и необходимо и принудительно доказательство от вечного и непорочного. Такового, может быть, совсем нет, а если есть, то совершенно для нас непознаваемо… Если бы существовало истинное знание, оно бы должно было быть свободным и исходить от свободного ума. Если же ум не воспринимает самой вещи из себя, он не воспринимает ее и по принуждению каких бы то ни было доказательств». Однако, пускай ничего, кроме меня, нет, те же проблемы встают в ограниченном кругу моего сознания. Гносеологическая проблема являет свой третий, этический аспект.
Представляет ли мир органическое единство или управляемую законами, по крайне мере — законом причинности, совокупность атомов, в нем места случайности нет. Уже схоластики бились над проблемой примирения свободы с необходимостью, уже в XIII в. аверроисты отчетливо понимали неизбежность признания необходимости. Все равно, будем ли мы возводить ее к воле Божьей, или к закономерному неизменному движению небесных светил, ближайшее знакомство с миром заставляет признать причинную обусловленность всего. И если мир лишь моя фантасма, он не освобождается этим от необходимости, может быть она становится даже очевиднее. Как же примирить ее с моей cвoбoдoй, которой не хочу считать своей иллюзией? И если я часть мира или микрокосмос, тем яснее необходимая связанность моей внутренней жизни, даже тогда, когда макрокосмоса не было
Стр. 156
бы cовceм. Как оправдаю я смысл моей деятельности и поставляемые себе мной цели? Как осмыслю бессмысленную игру своего разума, как объемлю непостигаемое единственным моим органом познания — разумом индивидуальное? Ведь я сам индивидуальность и ощущаю свою личность, хочу ее утвердить в мире для себя и для других. В себе самом должен я как-то примирить рационально-общее с иррационально-индивидуальным, объяснив самое возможность самопознания, осмыслить жизнь, согласовав общие нормы с индивидуальными хотениями. Но я не могу сделать ни того ни другого, не обосновав своего знания или не найдя высшего, чем рациональное, и оправдывающего и его и чувственность способа восприятия: я не в силах примирить общее с индивидуальным, пока не ясна мне объективность обоих.
Мы уже знаем, как подходила к решению всех этих вопросов философская мысль опохи Бруно, и как разрешал их Николай Кузанский своим отожествлением знания с бытием, теорией умного знания, идеями комплицитности и эксплицитности. Но если мы поймем, что все намеченные сейчас проблемы — тенденции мысли и жизни и что каждая из них рвется к осуществлению, нам станет понятною трудность уловить в темных словах Кузанца его гениальную интуицию. Чем «глубже и божественнее» его учение, тем оно «недоступнее». К тому же он говорил о Боге, звал к возвышаю-щемуся над миром «постижению непостижному», а мир все сильнее и сильнее влек к себе, как бы разрывая познающего в бесконечности своего многообразия, и личность все горделивее утверждалась в своем инобытии, в своей эксплицитности. Умное знание ведет к Богу, обосновывая и рациональное и чувственнoe, но чрез чувства шумно врывается мир, и прежде всего необходимо обосновать чувственное знание. Философия хочет жить, а не растворяться в вере.