Илл.: Христос Ярое око. Худ. Павел Корин. холст, масло. 1932 г.
Верно, как часто об этом говорят, что понятие «русская интеллигенция» не совпадает с привычным для Запада представлением о человеке интеллектуальной профессии. Интеллигенцию определяли (Бердяев, Зернов и др.) как секту или подобие религиозного ордена, находили в ней склонность к слепому догматизму, фанатизму, нетерпимости, негативизму, революционной активности и безбожию. Вместе с тем ее превозносили за самоотверженность, героизм, нравственную воодушевленность в борьбе за свободу и справедливость. Но недостаточно психологически или социально рассматривать такое явление, как русская интеллигенция. Корни ее глубоко уходят в духовную глубину русской жизни (отчасти православной, отчасти языческой), хотя «побеги» и формы ее определялись в зависимости от развития общественной жизни и культуры в России.
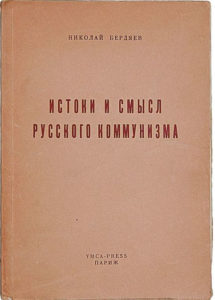 В России на протяжении столетий трагически давал себя знать недостаток христианского просвещения, продолжалась упорная борьба между христианством и язычеством. К этому прилагался еще и другой конфликт — столкновение в России древней христианской православной традиции и западной культуры (определившейся на основе западного христианства и получившей от него автономию). В условиях конфликтной русской жизни появился особый слой людей, представляющий в своей идеологии проблемы, которые столь же трудно осознаются, сколь напряженно и болезненно переживаются. Авторитет и роль русской интеллигенции — от ее способности выражать напряженные, болезненные, скрытые проблемы России. Оппозиционный характер ее идеологии связан с бурлящим подпольем русской духовной жизни. Подполье это образовалось в связи с великим, трагическим духовным событием русской истории, Расколом. Раскол — начало глубоких противоречий русской жизни и толчок для появления русской интеллигенции.
В России на протяжении столетий трагически давал себя знать недостаток христианского просвещения, продолжалась упорная борьба между христианством и язычеством. К этому прилагался еще и другой конфликт — столкновение в России древней христианской православной традиции и западной культуры (определившейся на основе западного христианства и получившей от него автономию). В условиях конфликтной русской жизни появился особый слой людей, представляющий в своей идеологии проблемы, которые столь же трудно осознаются, сколь напряженно и болезненно переживаются. Авторитет и роль русской интеллигенции — от ее способности выражать напряженные, болезненные, скрытые проблемы России. Оппозиционный характер ее идеологии связан с бурлящим подпольем русской духовной жизни. Подполье это образовалось в связи с великим, трагическим духовным событием русской истории, Расколом. Раскол — начало глубоких противоречий русской жизни и толчок для появления русской интеллигенции.
Об этом ярко говорил Н. Бердяев (особенного внимания заслуживает его работа «Истоки и смысл русского коммунизма»). Но его анализ имеет недостатки. Он переносит, проецирует на представление о русской интеллигенции особенности собственной духовной позиции, замкнутой в границах того же интеллигентского сознания. Бердяев слишком связан с интеллигенцией, чтобы взглянуть на нее вполне свободно, и он слишком связывает (как это делала русская интеллигенция) религиозные вопросы с социальными, политическими. В теологии Бердяев, культивируя свободу в ее светском выражении («Я изошел из свободы», — говорит он в философской автобиографии), занимает крайне либеральную позицию. Это не позволяет увидеть главную проблему русской мысли — ее абсолютизированный, переходящий в анархизм либерализм, смешение религиозного и светского понимания свободы. Такое смешение поражает духовные основы русской мысли, искажает и затемняет представление о грехе, устраняет или искажает покаяние как необходимую предпосылку религиозной веры и духовной жизни. Русские мыслители вопрос о грехе стали подменять и подавлять вопросом о человеческих страданиях. Вместо библейской постановки вопроса о страданиях как следствии греха, стала преобладать светская точка зрения, непримиримая со страданиями человеческой жизни и отказывающаяся видеть грех как грех, признавать страдания истинным следствием греха. Разделяя основной недостаток русской религиозной мысли, затеняющей сознания греха, склонной переживать его как несчастье или духовную катастрофу, пребывая под сильным влиянием нерелигиозного гуманизма, Бердяев не может ясно опознать этот недостаток, проследить до конца его происхождение из Раскола, на который сам обратил внимание. Пристрастность суждений Бердяева выражается в романтическом чрезмерном восхищении борьбой интеллигенции за свободу. Бердяев разделяет характерную для интеллигенции духовную гордость, о которой говорили Достоевский, Леонтьев, Булгаков.
Но нельзя не согласиться с Бердяевым, что для анализа существа идеологии интеллигенции надо видеть происхождение этой идеологии из Раскола, а Раскол связывать с идеологией утопической национализированной церковности. Первое, что надо отметить — связь Раскола с националистической утопией. В националистической утопии скрыто искаженное, фамильярное представление и о христианской святости, и о христианском милосердии. Кажется, что Божия милость исключительным образом обращена на мою национальность, мое государство, делая их исключительно святыми. История мстит за националистическую гордыню — неминуемо ведет к разочарованию в религиозной утопии. Идеализированное представление о святости своей церкви, тем более своего государства, «нарывается» на реальность и раскалывается. Ложь религиозной утопии проникает в представление о святости Божьей. Духовная жизнь отравляется в корне, «надрывается» самим нутром, сотрясается в основе. Г. Флоровский говорит: «Совсем не «обряд «, но «Антихрист » есть тема и тайна русского раскола. Раскол можно назвать социально-политической утопией. …Раскол рождается из разочарования… Хотелось верить, что Божие Царствие осуществилось под видом Московского государства…»

Разочарование в духовной утопии дает самые опасные следствия, поскольку человека ничто ничему не учит автоматически. Исторический опыт сам по себе не приводит к духовному просветлению, и когда духовная болезнь не излечивается, она загоняется внутрь. Фактически исторически опровергнутая, но духовно не разоблаченная, религиозная утопия порождает отчаянные, апокалипсические чувства, рушится вера в божественное милосердие, вера в милость Божию по отношению к себе и своей родине. «Какой тут Христос. Не близко. Но бесов полки», — восклицает лидер Раскола Аввакум. Крушение религиозной утопии переживается как духовная катастрофа. Это крайне соблазнительно, поскольку в определенном смысле катастрофа и случается, но, конечно, — не в Боге, не в Божьем милосердии, а в сознании тех, кто разочаровался в Боге и упорствует в заблуждении. Раскольники переживали полное затмение религиозных чувств, личный и национальный духовный апокалипсис. Духовная почва уходила из-под ног, люди «бежали, куда глаза глядят». Часть верующих откололась от своей «падшей» церкви, думая, что представляет собой ее сохранившуюся часть. «Беспоповцы» пошли по пути своего рода реформации. А какая-то часть народа, преимущественно образованного, вышла на путь открытой секуляризации своих религиозных представлений — на путь русской интеллигенции.
Становление русской интеллигенции, отшатнувшейся от церковной веры и обратившей свои религиозные чувства на борьбу с бедами и несправедливостью жизни, связано с безысходным и «затяжным» переживанием духовного отчаянья Раскола. Запертые религиозные чувства «бродили», превращаясь в нерелигиозные, светские страсти. Отчаяние, по сути, мгновенное, рвущееся к свету, но не находящее его, вырождается, темнеет, превращается в ядовитое, привычно-унылое и безнадежно-ленивое, до сладострастия к себе привязанное уныние, убегающее от жизни и липнущее к ней. На свет рождается двусмысленная, больная жизнь — как душевная, так и духовная, душевно- духовная. Затяжное духовное отчаяние порождает сладострастное чувство обиды, соблазнительное и гордое сознание себя святым мучеником. Сострадание бедам других и гнев на обидчиков окрашивается умилением перед своим милосердием, своей жертвенностью, своим героизмом, гордым сознанием «праведности» своего гнева.
Превращение религиозного отчаянья в устойчивое жизненное переживание связано с извращенным представлением о грехе. Отчаянное переживание греха, характерное для Раскола, выражает разочарования в характерном для утопического национализма ложном образе божественного милосердия, когда человеческий грех оценивается как «духовное несчастье», столь же невинное, сколь и нетерпимое, с которым надо или рабски смириться или насмерть бороться, ища его виновника. Страдалец видит себя «святым мучеником». Жизнь становится предметом болезненной мечтательности, терпеливая работа по ее улучшению подменяется революционными проектами мгновенного и радикального преображения всей жизни и себя самих…
Вообще говоря, несчастья переживаются или религиозно, когда осознаются как следствие греха, или атеистически, разделяясь далее на стоическое или претенциозно-революционное их переживание. «Сами по себе» несчастья — только напряженная и неопределенная «материя», оценка и значение которой полностью зависят от нашего отношения к ней. «Специалист» по несчастьям Ницше говорил, что страшны не сами по себе страдания, а их бессмысленность. Тело и боль заявляют свою власть, могут возобладать над нами, но для верующего жизнь остается исполненной духовного смысла, за страданиями открывается перспектива просветления. Страдания не переживаются просто «сами по себе». Верующими они переживаются в свете сознания греха и покаяния, чаяния очищения и близости к Богу. Лишенные религиозного смысла, несчастья переживаются неверующими не просто без осмысления, а как очевидно и вопиюще бессмысленные, как изначально невыносимые. Безбожие отвечает на страдания или стоическим погашением сознания, тупой покорностью, или истерическим, революционным протестом — в основе бессмысленным, тщетно ищущим свой смысл в ненависти к врагам и в борьбе с ними. В социальной сфере такие «враги» всегда под рукой — правительство, ответственные или привилегированные классы. Глубокомысленные резиньяции о бедах и бессмысленности жизни, с одной стороны, и революционные настроения с утрированным вниманием к политическим проблемам, с другой, — характерные черты секуляризированного переживания трагедии жизни.
Решающий, роковой момент извращения русской духовной жизни — апокалипсическое отчаяние Раскола, разочарование в своей церкви, в Божьем промысле и милосердии. Рождается, по существу, духовно разрушительное и абсурдное представление о «духовном несчастье», появляется затемнение в представлении о Боге. Единственным духовным несчастьем в строгом смысле слова является грех, и только грех, о котором и надо говорить строго. Но даже и в отношении ко греху выражение «духовное несчастье» сохраняет условность. Грех справедливо наказывается, и наказание не определить как несчастье. Грех прощается «как не бывший». «Зло есть ничто» — с высшей и последней точки зрения из опыта покоя и радости в Боге. От греха, учит христианство, нас и спасает Бог, когда делает Свое главное дело для нас — берет на Себя грехи наши. Бог спасает нас от духовной катастрофы, когда открывает нам Себя как Бога спасающего и любящего, и когда в принципе отрицается какое-либо «духовное несчастье» — основная категория Раскола, следствие темной категории националистического «духовного счастья». Бог спасает нас совершенно, когда открывает Себя как наш Спаситель (и на этом сосредоточено догматическое христианское учение, утверждающее предвечную божественность Спасителя), хотя оставляет за нами свободу ответа. Мы спасаемся, если этого хотим, если принимаем спасение верой. По милости Божьей вера вменяется нам и раскрывается в нас как свободная основа нашего спасения внутри нас. Когда же в Расколе вдруг переживается «духовная катастрофа», извращающая и утрирующая переживание греха как несчастья, тогда расшатываются основы религиозной веры и жизни.
Переживание греха как несчастья и растворение покаяния в сострадании — роковая пробоина в духовной жизни, образовавшаяся в русской истории. Духовный «эстетизм» или религиозный «поэтизм» — особого рода извращение религиозных чувств на русской почве. Идеология русской интеллигенции пронизана сладострастным, самолюбивым нытьем, использующим как предлог действительные несчастья и беды жизни, полна надутым, фальшивым «праведным» негодованием, злобой и пошлой раздражительностью, используя как предлог воистину возмутительные грехи. Здесь не только пустая болтовня или расчетливая демагогия, а много более опасная ложная религиозность в поэтической форме, в форме такого фундаментального «поэтицизма», который сопоставим со «сциентизмом», определившим характер западной мысли. На русской почве процесс секуляризации, определивший западную культуру под влиянием науки, происходит через воздействие иного, художественного, эстетического начала. Западной секуляризации в форме рационализации и «сциентизма» симметрично противостоит русский инвариант сакрализации в форме иррационализма и «поэтизма». Для западной культуры главной проблемой оказывается рационально-ясная форма секуляризации, открытое отделение секуляризированной культуры от веры и церкви. Для нашего Востока — скрытая, иррациональная форма сакрализации, когда религиозно-извращенным образом «освящаются» нерелигиозные начала культуры (рожденные на Западе и занесенные оттуда). Но и открытая западная секуляризация, и скрытая восточная сакрализация глубоко двусмысленны в своем значении, оставаясь до сего дня непроясненной проблемой нашей культуры и религии. Восточная сакрализация выражает требование религиозного осмысления светской культуры («всеединства» — как говорили в русской философии). Происшедшее на Западе отделение от религии специализированных (относительно друг друга и своей религиозной основы) областей культуры выражает требование их самостоятельности как основы их развития. Но и на Востоке, и на Западе развивается паразитирующее на светской культуре безбожие. На Западе — в качестве равноправного элемента автономной от религии культуры, на Востоке — сначала как скрытый компонент самой религии, как ее культурное выражение, как религиозная культура и религиозная философия, а в советское время — как ее пародия, отрицательный двойник, прилипший оппонент, одержимый враг, религиозно озабоченный атеизм. Западная секуляризация обеспечивает самостоятельное развитие культуры, восточная сакрализация указывает на необходимость выражения религии во всех сферах человеческой жизни.
Националистическая утопия о церкви и государстве оказалась подведенной под Россию миной замедленного действия, которой суждено было взорваться, расколоть духовную и светскую жизнь России. Сущностью Раскола был религиозно ложный, отчаянный апокалипсис, переживание духовной катастрофы в отношениях с Богом. По мере исторического продолжения и «отстоя» отчаянье Раскола неизбежно превращалось в ядовитую смесь — отвращения и привязанности к жизни, в том числе — и к жизни духовной, в смешение духовного и светского как в светской жизни, так и в жизни духовной.
* * *
Взглянем на истоки русской религиозной мысли, какой она определилась к началу 19-го века. Принято считать началом оригинальной русской мысли «философическое» письмо Чаадаева, пробудившее русское самосознание оскорбительной пощечиной. Чаадаев строит трехэтажное здание своей философии. В основе — подмена собственного значения христианства назначением «дать миру христианскую цивилизацию». Второе — безусловно-высшая оценка европейской культуры, возникшей на основе объединяющего принципа католичества. Наверху — образ России, выпадающей из общего культурно-христианского развития, заслуживающей беспощадной оценки. Все венчается настроением безнадежности по поводу состояния ее духовно-культурной жизни. Если и есть какой-то смысл в ее существовании, то лишь в том, «чтобы дать миру какой-то важный урок…» Звучит, наконец, самая «высокая» и пронзительная нота духовного уныния Раскола: Божье провидение оставило Россию, «мы – пробел в нравственном миропорядке».

Но еще до Чаадаева в 18-ом веке мы видим в самом ярком мыслителе того времени образец характерно-русского переживания «духовного несчастья». Как это родилось в Расколе и привилось потом в России, Григорий Сковорода сближает грех с несчастьем. Христианское положение о том, что «мир во зле лежит», он трактует в духе сочувствия мировому несчастью:
«Мир сей являет вид благолепный,
но в нем таится червъ неусыпный.
Горе ти, мире! Смех мне являешъ,
внутри же душою тайно рыдаешъ».
«О, прелестный мир, ты — океан, пучина;
ты мрак, вихрь, тоска, кручина».
Есть сомнительная сторона хваленой русской доброты, склонной к всепрощению, но есть и особенная духовная проницательность этой доброты, провидение такой глубины несчастья грешника, которую он сам не видит и даже не чувствует. Есть истинно христианское, православное, русское осмысление опыта человеческих страданий. В отличие от Чаадаева, Сковорода не теряет видения греха в жизни людей, но он провидит в глубине греха скрытое от сознания самого грешника его духовное страдание. Сострадание грешнику не отменяет у Сковороды осуждение греха, не превращается во всепрощение, в сугубо светское сочувствие житейским трудностям и невзгодам.
Контраст этому — Радищев, с его резко «секуляризированным» отношением к страданиям. Его сострадание скрывает в себе претенциозность, скрыто обращенную к Богу, промыслу Божьему, но подающую себя в форме осуждения «власть имеющих». Радищев не объявлял себя ни атеистом, ни революционером, но в его возмущенном и секуляризированном «сострадании», исполненном «праведного негодования», уже заложено безбожное революционное мировоззрение. Как говорит Бердяев: «…слова Радищева «душа моя страданиями человеческими уязвлена стала » конституировали тип русской интеллигенции». У Радищева явно проступает раздраженный, болезненный характер сведенных к светскому предмету, извращенных религиозных чувств. Он — носитель заразной «язвенной болезни» русской интеллигенции. Императрица, покаравшая Радищева, разглядела в нем «французскую заразу». Характерен демагогический, театральный, сугубо публицистический характер его мысли, где поэтический элемент используется не только внешне для формы произведения, а по существу мысли. Это ярче всего показывает Радищева если не «отцом» (которым является скорее Белинский), то «дедушкой» нерелигиозной интеллигенции России. 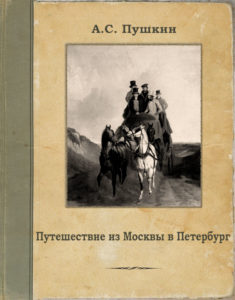 Обладая абсолютным литературным слухом, Пушкин (по слову Бердяева, «единственный ренессансный человек в России») ясно увидел за пошлостью слога фальшивость идей Радищева: «Горькие полуистины… дерзкие мечтания… модное краснословие… Очевидно, что Радищев начертал карикатуру». Унылая, ноющая и озлобленная претенциозность — существо идеологии, которую выражает и творит Радищев, «отталкиваясь» от христианского сострадания и милосердия. Жалостливый, но претенциозный, озлобленный характер переживания Радищевым жизненной трагедии резонирует с религиозным унынием «расколотого» народа. «Свадебные наши песни унылы, как вой похоронный», — замечает Пушкин, указывая на единственный пункт совпадения картины Радищева о народной жизни с самой этой жизнью. Но это совпадение — самое опасное. Интеллигенция, начиная «петь в унисон» с народным нытьем, расшатывает народное сознание, которое податливо «резонирует» на обличительную и самовлюбленную идеологию интеллигенции. Она взвинчивает претенциозные, ноющие, анархические настроения самого народа. Народническое подобострастие русской интеллигенции сначала раздражало народное сознание, вызывало здоровое презрение и отвращение (это замечали занимавшие литературную трибуну русские аристократы, вроде Л. Толстого), но с какого-то момента понравилось и стало развращать. Такова была самая опасная социально-духовная роль интеллигенции в России.
Обладая абсолютным литературным слухом, Пушкин (по слову Бердяева, «единственный ренессансный человек в России») ясно увидел за пошлостью слога фальшивость идей Радищева: «Горькие полуистины… дерзкие мечтания… модное краснословие… Очевидно, что Радищев начертал карикатуру». Унылая, ноющая и озлобленная претенциозность — существо идеологии, которую выражает и творит Радищев, «отталкиваясь» от христианского сострадания и милосердия. Жалостливый, но претенциозный, озлобленный характер переживания Радищевым жизненной трагедии резонирует с религиозным унынием «расколотого» народа. «Свадебные наши песни унылы, как вой похоронный», — замечает Пушкин, указывая на единственный пункт совпадения картины Радищева о народной жизни с самой этой жизнью. Но это совпадение — самое опасное. Интеллигенция, начиная «петь в унисон» с народным нытьем, расшатывает народное сознание, которое податливо «резонирует» на обличительную и самовлюбленную идеологию интеллигенции. Она взвинчивает претенциозные, ноющие, анархические настроения самого народа. Народническое подобострастие русской интеллигенции сначала раздражало народное сознание, вызывало здоровое презрение и отвращение (это замечали занимавшие литературную трибуну русские аристократы, вроде Л. Толстого), но с какого-то момента понравилось и стало развращать. Такова была самая опасная социально-духовная роль интеллигенции в России.
Говоря о религиозной основе западной культуры, Чаадаев, в действительности, обожествлял секуляризированную, отделенную от религии культуру. Обобщенная и вместе с тем весьма субъективная, причудливая религиозность Чаадаева беспечно сочеталась с чисто светским культом общечеловеческой истории, культуры и прогресса. В мысли Чаадаева издалека, но вполне прозрачно просвечивается коммунистическая идеология с идеалом «Царства Божьего на земле»: «Историческая сторона христианства заключает в себе всю философию христианства. Истина едина: Царство Божие, небо на земле… Призвание церкви в веках было дать миру христианскую цивилизацию». Личность оказывается ничтожной перед общим, общественным сознанием, «общим» и «мировым разумом».
Мысль Чаадаева, при всей ее внешней целостности, противоречива и лихорадочна. Анархический индивидуализм переходит в культивацию авторитета и общественного сознания. Гордая любовь к России, будучи оскорбленной, вспыхивает ненавистью и презрением. Почитание русской религиозной традиции перемешивается с уничтожающей ее критикой (за ее социально-культурную немощь и пассивность). Такого рода лихорадочность и противоречивость характерна для русской мысли, подготавливает вспышку революционных чувств. Революцию вполне можно назвать социальной или национальной истерией, проистекающей из коренной духовной истерии разочарования в своих (утопических, извращенных) религиозных идеалах.
Иначе заявляют себя идеи светской культуры в религиозной философии первых «славянофилов». Здесь нет, как у Чаадаева, откровенного и простодушного апофеоза западной культуры. Напротив, отстаивается и противопоставляется секуляризированным идеям западной культуры традиция русского православия. Тем показательнее, что и здесь можно рассмотреть присутствие светских идей — но не в открытом виде в качестве предмета суждения и оценки, а скрыто и глубже в качестве критерия толкования самой религиозной позиции. Светские идеи оказываются так навязчиво и крепко впаянными в русскую мысль, что попытка их оттолкнуть еще сильнее приклеивает их к рукам. Они только исчезают из вида, когда заходят с тыла и устраиваются «в затылке», там, откуда исходит взгляд. Славянофилы пытаются с религиозных позиций осветить проблемы новой культуры, но бессознательно и невольно они делают обратное: опираются на светские идеи, желая по-новому разъяснять свою религиозную позицию.
Впоследствии Вл. Соловьев классически определит это намерение как стремление «оправдать веру отцов», совершенно не замечая, что само его намерение «оправдать» коренным образом компрометирует то, что он «оправдывает». «Вера отцов» понимает себя основой оправдания, а не тем, что нуждается в оправдании. Вл. Соловьев жил с настроением светского философа, охотно почитающего религию как любимый предмет философии, который философии вполне принадлежит и к ней сводится. При всей эрудиции, он не чувствовал духа христианского богословия, для которого «нужда» в свободной философии есть ничто иное, как столь же решительное, сколь и великодушно-избыточное выражение Откровения Божьего на пути свободного его усвоения теоретическим разумом человека.
Алексей Хомяков использует критерий братства и единства людей для определения особенного характера православной церкви, решает при помощи этого (по существу светского) критерия догматические вопросы, например, о догмате филиокве. Дело доходит до того, что он не только утверждает отсутствующий в православии догмат об исхождении Духа «только от Отца», но фактически учит тому, что Дух Святой приходит к нам, исходя не только от Бога, но «и от братьев», соборно и православно соединенных в любви.
Чисто светское понимание свободы заявляет у Хомякова свой светский характер, когда безусловно противопоставляется всем церковным и религиозным авторитетам. «Церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос». Нельзя списать такие заявления на крайность выражений. Здесь такая крайняя форма выражений, которая, выходя за пределы вопроса о формах выражения, касается существа мысли. Заявляя свое понимание свободы как исключительно христианское, Хомяков одновременно заявляет его как общую основу человеческой жизни: «Свобода и необходимость составляют то тайное начало, около которого в разных образах сосредотачиваются все мысли человека». Потом Бердяев (написавший о Хомякове сочувственную работу) и многие другие русские мыслители также будут смешивать религиозное и светское видение свободы, богословие и философию, отождествлять божественное и человеческое (любимой станет идея «богочеловечества»).
Для Хомякова свобода оказывается историческим критерием определения существа христианства («иранское» начало в истории). Из этого делаются далеко идущие, даже практические выводы об общественно-политической жизни и о проблемах России. Светское учение об общественном договоре (идущее от Жан-Жака Руссо) предлагается как принцип разъяснения религиозного отношения русского народа к власти и даже как сущность священной монархии. Хомяков — автор идеи «негласного договора» народа с царем: «Власть должна понять, что ее собственное бытие основано на нежелании народа властвовать». Это, разумеется, «ни в какие ворота не лезет» — никакого учения о священной власти царя. Но надо заметить вольное обращение Хомякова с христианским учением о грехе, когда он отождествляет с грехом власть. Это противоречит христианскому учению и о власти (Рим.13:1), и о грехе. Приравнивая власть к злу и греху, Хомяков отождествляет физическое зло и грех. Это — путь Раскола, русло основной духовной подмены русской мысли, сакрализации светских принципов, русского безбожия.
Иван Киреевский выдвигает свой светский критерий религиозного знания как целостного знания, живой философской интуиции (как у Шеллинга). Этим критерием Киреевский определяет существо личного (а не, как у Хомякова, общецерковного) духовного опыта: «В глубине души есть живое средоточие для всех отдельных сил разума, сокрытое от обыкновенного состояния духа человеческого… В глубине души того внутреннего корня разумения, где все отдельные силы сливаются в одно живое и цельное зрение ума». Как и Хомяков, он увлечен критикой западного, секуляризованного «рационализма», не беспокоясь, что научился этой критике от секуляризированного Запада, ближайшим образом от Шеллинга. Киреевский упускает из вида, что сама его критика рационализма имеет рационалистические основания (историк русской философии В. Зеньковский дает этой критике прозвище «трансцендентализм»). Киреевский не думает о положительном значении секуляризации, специализации, отвлеченной, теоретической мысли. Безоговорочно утверждая: «Тот смысл, которым человек понимает божественное, служит ему и к уразумению истин вообще», — он оценкой предрешает проблему: «Мышление, отделенное от сердечного стремления, есть развлечение для души; чем глубже такое мышление, чем оно важнее, по-видимому, тем легкомысленнее, в сущности, делает оно человека». Это остроумное замечание верно только до определенных пределов. Верно, что секуляризированная культура, какой бы богатой ни была, может сделать ее «носителя» ничтожным и легкомысленным. Но остается вопрос, по каким причинам это происходит и к чему ведет? О ничтожности нового человека говорили, как религиозные мыслители (например, Кьеркегор), так и светские (например, Маркс, Ницше). Призывая к целостному, живому пониманию, свободному от легкомысленной отвлеченности, Киреевский ссылается на учителей восточной церкви, но прилагает их учение к новому историческому контексту. Учителя церкви не имели дела с нашей секуляризированной культурой. Другое дело — язычество. Учение о целостности ума развивало веру на путях монашеской сосредоточенности и отрешенности от мира.
Сказанное не унижает значения русской религиозной мысли, но показывает ее явно маргинальный и проблематичный характер, когда ее самые важные религиозные положения могут скрывать за собой противоположный секуляризированный смысл.
Достоевский говорил, что главный для нас вопрос: «Как современный европейски образованный человек может верить в Бога?» Это вопрос о том, как современный человек может верить в греховность своей природы и может ли для него иметь смысл откровение о спасении от греха. Новоязыческие представления секуляризированного гуманизма закрыли от человека новой культуры не только Бога, но и глубину его собственной души. В России это проявилось в особенно резких формах. Проблемы России, заявленные в истории русской религиозной мысли, касаются всей западной культуры и особенно важны для нее. Они ставятся в России в крайней форме, грубость которой отталкивает академически настроенных наблюдателей. Но в крайней форме ярко выражается фундаментальность и значительность этих проблем. Русская философия замечательна решительной выразительностью, очищающей основной «толстый» ствол мысли от паутины всевозможных аналитических и наукообразных тонкостей. Русская мысль сильна целостной выразительной силой, органической синтетичностью, принципиально отличной от аналитической изобразительной мысли Запада. Тщательность и точность обработки мысли — преимущество культурно развитой западной мысли, но слепо предпочитать ее русской мысли — не знать главной проблемы в развитии современной культуры, склонной за деревьями не видеть леса.

Русская мысль указывает на главную проблему христианской проповеди в современном мире, опорой которой остается осознание греха и покаяние. Эта опора оказывается размытой под влиянием светского гуманизма, безнадежно приучающего современного человека к слепой и расслабленной культивации своего «собственного я», своей индивидуализированной «личности», якобы «по природе» гарантированно обладающей «правами» разумности и свободы. Подорвано острие, основная точка опоры христианского покаяния — способность к истинной, страстной и решительной ненависти к своему греховному «я». Популярные разъяснения проповедников всеядной и безразличной любви к человеку о том, что человека можно только любить, а ненавидеть надо только его грех, затеняют страшную суть греха. Грех способен сливаться с человеком и не позволяет запросто отделить «самого» человека от прижитого им греха. Истинная, столь же великая, сколь и опасная глубина сознательности и свободы человека — в способности навечно решать судьбу своей души перед Богом и Его Судом. Более всяких проблем «теодицеи», более чем проблема «невинных страданий», более даже, чем проблема тотальности научного мировоззрения, отделяет современного человека от христианского Откровения величайшая ответственность, к которой призывает Откровение, и которая требует о современного человека крайней напряженности на путях его мысли. Проблема науки, омертвления самого корня живой человеческой мысли имеет свою остроту в том, что «объективное» научное знание позволяет человеку уйти от высшей ответственности за свою мысль и свою веру. Перед «объективной реальностью», которой озабочена наука, человек умолкает со своими личными интересами, а развитие научного знания становится для него главной целью «общечеловеческого прогресса».
В России идолом, заслонившим от людей их глубоко личные духовные интересы, оказалось построение утопического «светлого будущего». Это ярко представлено в истории русской религиозной мысли, основной болезнью которой обнаруживается размывание учения о грехе на путях увлечения социальными утопиями, обольщения своим национальным, государственным, церковным «достоинством». Поэтизация веры, идеализация церкви и государства смешивают в сознании человека церковь и государство, божественное и человеческое и, наконец — обличение греха и сострадание человеческим несчастьям. Грех отождествляется со злом страдания, а само страдание отождествляется с физическим страданием. Смешивается духовное с телесным, Божие — с человеческим. История русской мысли показывает, что в проблеме греха сосредоточен соблазн основных духовных подмен, соблазн современной эпохи светского гуманизма, подменяющего гуманизм христианский. Грех — исток этих проблем, поскольку способен подменить собой как самого человека, так и Бога, и святые Его дары.
«Итак, добро стало для меня смертью? Отнюдь нет. Но стал ею грех, чтобы был явлен как грех, причиняя мне смерть через добро, чтобы грех через заповедь стал грешным выше всякой меры» (Рим. 7:13). В истории России мы видим параллельное западному, отдельное, но того же направления русло, по которому человек отходит от Бога. На Западе сциентизм погашает духовную чувствительность, в России «поэтизм» утрирует и затемняет ее. И там, и там — уклонение человека от покаяния. В сознании современного человека грех стал терять ясные очертания, переставая быть достойным гнева и наказания Божьего. Если не бояться слов (библейских слов!) и говорить в полный голос, то надо сказать, что мы перестали видеть грех в его страшной способности обязывать Бога к святому мщению за него. Грех покушается на вечность, покушаясь на человека, на образ Божий в нем, и не может быть просто забыт или отброшен. Как не может быть отброшен в небытие уже созданный человек, так — и сотворенный им грех. Разъяснить это всего важнее и всего труднее современному человеку, находящему под влиянием безбожного гуманизма. В христианстве нет места ни жалости к греху, ни ложному, презрительно-снисходительному «состраданию» грешнику. Раньше всего нет места ложной, языческой «святости», оставляющей грех без разоблачения, представляющей безгрешной особую часть человеческой жизни, своего народа, государства. Святость исходит из единого источника Спасения, от единого Безгрешного и Святого. Она исходит из этого Источника надежно и достоверно — не оставляя никакого места для духовного уныния или несчастья. Все идолы, сначала вызывающие восторг, а потом уныние, обольщающие и губящие, должны быть устранены — как из жизни, так и из мысли. Это — необходимое и главное условие прояснения русской мысли и осознание истинной роли русской интеллигенции.
ОБ АВТОРЕ:
Константин Константинович Иванов (род. 1943 г.) — русский религиозный философ, живет в Санкт-Петербурге.
Связанные публикации:
ПРИБЛИЗИТЬСЯ К ТАЙНЕ САМОЙ ТАЙНЫ…
АНАТОЛИЙ ВАНЕЕВ — УЧЕНИК ЛЬВА КАРСАВИНА
