Илл.: Центральный плафон Церкви Воскресения Христова (домовая церковь Екатерининского дворца) в Царском Селе. Фото ГМЗ «Царское село».
О КАНОНАХ И КАНУНАХ ЦЕЛОСТНОЙ КУЛЬТУРЫ


Священнику
о. Василию Лесняку
и священнику
о. Василию Ермакову
с любовью и смущением
посвящает
автор.
Стр.5*
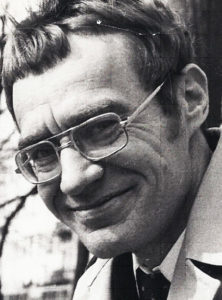
Кажется, что самое понятие целостности культуры в наши дни и в отношении содержания, и в отношении целей дискредитировано почти катастрофически. Увы, даже на отдаленные подходы к такого рода целостности немедленно ложится густая тень тоталитарности, обряженной, так сказать, в серый сюртук казенности, в удушливый формуляр идеократической зафрахтованности. А растущая во всех отраслях культурной семантики значимость всевозможных «систем», «подсистем», «подкультур» и «субкультур»— лишь другая сторона этого кризиса, неожиданно, но весьма бодро фиксирующая понятие плюрализма в качестве «современной» формы целостности. Это ли не парадокс? Как бы там ни было, но за всем этим легко опознаются симптомы глубокого поражения, признаки как бы разрыва самой аорты культурного организма, питающей его сокровенный состав, самое плоть жизни — отношения отцов и детей, юности и старости, сожительство полов, совместимость национальных этосов, сопричастность образования и культуры и т. п. Глубина этих грозных разрывов в известной мере и выражается этой деформацией и опустошением понятия целостности, которое на глазах вытесняется на «задний двор» культуры — в справочники, словари, семинарские занятия по теории систем и т. п. Что это: истощение культурных ферментов целостности, смерть великой идеи, а может быть, темпоральная особенность ритма ее развития, временный анабиоз?
И по недостатку сил, и по масштабу задачи не беремся отвечать на эти вопросы, и если делаем некоторое усилие, то всецело рассчитываем на добрую волю к пониманию.
Кажется тривиальной мысль, что настоящее культуры выявляется в смысловом единстве с прошлым и будущим. Только в этом единстве культура и может быть понята как момент обновления, направленное исполнение и как грядущее свершение. Но культура не только динамична и морфологична, она по-своему
Стр. 6
обратима, амбивалентна. Выходя из своего родительного лона, она структурируется в систему и иерархию разных виртуально согласованных уровней; отталкиваясь от прошлого, уходит на периферию, конвергирует со смысловыми пределами завершения, меняет свои ценностные лики, напрягает будущее, блуждает и заблуждается, но износя на чуждой почве живую силу духа, так или иначе открывается прошлому, вновь ищет свою утраченную или сокрытую «сущность».
Не избегая двусмысленности понятия «сущность», скажем, что всякая культура худо-бедно живет и самодетерминируется пределами заданных значений и ценностей, и первый парадокс культуры в том, что ее крайние пределы изнутри культурного самосознания познаются и переживаются как непротиворечивые, то есть всегда, везде и для всех истинные. В этом смысле культура есть овнешняющаяся трансцендентность, исповедующая и исполняющая себя свобода. Но исполняющаяся свобода остро личностна, и именно личностная ипостасность культуры делает ее целостным субъектом общения с другими культурами, вообще — субъектом жизни поверх исторического времени. Это не значит, что противоречиям нет места в культуре и что она не исторична. Личностная ипостасность культуры — ее свобода — формируется процессом преодоления чужого, сопротивлением и конфронтацией другому, и чем радикальнее дистанцированность, тем выразительнее самобытность начальных интенций культуры, духовность ее лица, конкретность и жизненность ее святынь и культа. И наоборот, рыхлость, незавершенность и неполнота самоопределения и ценностного распределения возвращает культуре ощущения аморфности, темпоральности, невыработанности целого и границ, капитальную историчность ее состава (и в определении часто выступающих как энциклопедическая «совокупность» ценностей).
Радикальным преодолением чужого и чуждого как бы заново одушевляются мертвые «зоны» культуры, окаменелость традиции и обычая расплавляется и претворяет мозаику культурных «текстов» в единство и целостность духа, в самосветящийся Логос культуры.
Вообще говоря, в полноте абсолютного духа нет места культуре. На ее месте — святая жизнь, вся устремленная к обожению, подчиненная тайнодействиям культа и высшим дарам Духа. Однако в мире остается грех и смерть, и они не у порога святости, а ежеминутно пронизывают ее «сплошь» и «насквозь» и превращают эту жизнь в борение и подвиг, обусловленные духовной иерархией призвания. Уже эти борения и подвиг имеют свой метод, свою «стратегию» и «технику» хранения, умножения и очищения, свою «икономию» и «акривию», иными словами, свою культуру. Любая культура религиозна в самом коренном смысле и как таковая — духоносна и свята. Исходя из своего религиозного
Стр. 7
центра, из культа, где сходятся «горнее и дольнее», истина и жизнь, культура имеет своей исповедальной «функцией» задачу подчинить всю природу и всю человеческую свободу высшей благости — богозрению и богознанию. И даже там, где это радикально позабыто и даже отвергнуто, «горние» истоки культуры, ее культовые корни продолжают свою оплодотворительную работу. Повторяем, религиозная функция культуры парадоксальным образом и по определению универсальна, она стремится целостно облечься, «впасть» в антропологию, тотально претвориться в человеке, элиминироваться в его свободе, потенциальности и риске. Понятно, что это стремление незавершимо, ибо свобода человека радикально исторична и есть его открытая временность. Но это значит, что незавершимость фиксирует себя как историческая форма качествования культа, как полнота неполноценности, завершенность незавершимости, как виртуальное равновесие культуры, сохраняющей религиозные основания всеобщих антропологических значений и смыслов жизни — труда, общения, мышления, смерти…
Вопреки шпенглеровской парадигме, культура не есть некая экзегеза культа, раскрывающая по образу семени все свои прафеноменальные потенции в органическом ритме природной принудительности. Не переставая быть организмом, то есть одушевленной целостностью, культура исповедует и исполняет свободу, следовательно, включает момент риска человека, его способность предельных испытаний, связанных с подъемом и срывом и даже — с катастрофой. Как подметили еще древние, рискуя, проходя через испытания (пейра), человек, собственно, и обретает свободу реально. Без риска свобода теряет силу, вырождается в фантомы моделирующего сознания, в игру воображения, теряет способность и навык воспринимать целостную простоту и святость жизни…
Однако ясному пониманию этого обстоятельства изрядно мешает также и парадигма просветительского мышления, усматривающая в происхождении начальную фазу восхождения. В таком понимании настоящее культуры неосознанно наделяется презумпцией превосходства, в силу которой понятия происхождения и превосхождения натурализуются и рассматриваются как «эволюционирующая» величина. Гордая, но, увы, пустая точка зрения. Скажем только, что гордыня, как известно, «инволюционирует» к слепоте, и это нужно крепко держать в памяти…
Как бы там ни было, разрыв культа и культуры не может быть абсолютным, и при самом динамичном развитии культуры ее происхождение не перестает быть явным или тайным ферментом ее самоизживания, имманентным ее телеологии и даже функциям.
Там, где вопрос о происхождении культуры лишается смысла, его бессмысленность в порядке «обратной связи» возвращает культуре ее собственные строительные возможности, а именно —
Стр. 8
безосновного и безответственного субъекта. Этот абстрактный функционер культуры в той мере, в какой он остается «живым» моментом своего происхождения, исподволь наделяет культовой функцией самую культуру, сакрализует ее по всему факультативу частей и элементов. Так культура, впадающая в анабиоз и беспамятство, карикатурно устремляется навстречу культу, карикатурно же продуцируя «религиозный» пафос культа прошлого. Культ будущего, культ силы, культ личности, культ нации, культ спорта, культ секса…— эти «факультативы» культов раскрывают исторический театр сверхисторической драмы культуры, «физику» ее метафизики.
* * *
Не секрет, что наша культура, как говорится, вся изошла из глубочайших таинств христианского культа. Это — ее творческое «начало» и ее творческий «конец», которые интересны для нас своей почти тотальной культурной противоположностью. Ведь если характеризовать основную черту средневековой культуры, то она наиболее полно может быть усмотрена поистине в исполинской работе над синтезом всей жизни. Причем, идея всеединства исходит не из теоретической посылки или догмата, а из живого, кровью неисчислимых мучеников засвидетельствованного события: воплощения всей полноты сущего в человеческую плоть как момент вечного, трагедией земной жизни Бога искупленного и непрерывно продолжающегося рождения и становления Истины. «Бог сделался человеком, чтобы в себе обожить нас»,— в этой формуле отцов Церкви вся сущность христианского культа как религиозного «зерна» новой культуры и прежде всего ее антропологии и сотериологии — учения о грехопадении и спасении. Христос «обнищал в человечестве», обожив принятое человеческое естество «излиянием» в него божественного Слова, по дару которого вновь свободно привлек изгнанных из рая и проложил путь к победе над смертью. Он — Родоначальник обновленного человечества, новый Адам, воскресивший в верующих изначально благодатное состояние природы. Тем самым разрушено средостение Ветхого и Нового Заветов, примирены языческий и христианский миры, ибо Сын как принцип искупления и спасения всего человечества «предначертательно» рассматривается всей суммой эллинской мудрости как момент Отца и Духа — принципа миротворения. В реальной точке земного бытия мистически утвердилось всеединство: абсолютное и относительное, бесконечное и конечное, целое и частное, быв всегда неслиянными, стали навсегда нераздельными.
Конечно, на путях такого грандиозного синтеза было множество «лжеименных» хождений, мечтательных и фантастических странствий, настоящих обвалов истины и целей. Но этим и откры-
Стр. 9
вается впервые историческое сознание: чтобы привести к полному развитию и становлению сверхуниверсализм христианской веры, нужна была «почва» всей земли, рассыпанной в мире бесконечных разноликостей и своеобразий. Но триипостасная Истина одна и, закрепляясь в мире действительности церковным воодушевлением и обрядом, Крестом и Кровью, она требует тождества культа и культуры, единства веры и жизни в «Духе и Истине». И начиная с христианства апостолов и мучеников и до отцов Церкви (и последнего великого синтеза всех догматов, осуществленного Иоанном Дамаскиным в VIII в.),— эта культура не дает права (а потому его и не имеет) ни эстетическому чувству, ни философскому гнозису творчески произвольно дистанцироваться от поражающей и превозмогающей ум и воображение тайны Воплощения и Воскресения. Не отстраняться, а внутренне собираться, не разбирать собранное, а уяснять и связывать рассыпанное — вот центральная интенция культурной воли, и горение сердец в ненасытимой вере: «Ты еси Бог творяй чудеса!» Здесь энергия синтеза абсолютно владычествует над всеми формами жизни и даже после того, как идея всеединства не выдерживает напряжения культурно-политических и национальных перегрузок и раскалывает мир на два полюса — Запад и Восток,— пафос единения, вновь и вновь обновляя свои дедукции, не угасает, и горячая вера в близость окончательного синтеза остается центральной силой духа, бьющей из глубины трагедии схизмы и составляющей ее катарсический момент.
Чем эта энергия единства вдохновлялась и обосновывалась? Безусловно и исчерпывающе говоря, огненным фактом Богочеловечества Христа, в пламени которого горела и сгорала старая мудрость мира, его культы, каноны и законы и вся жизнь раскрывалась как единая Божественная «Аминь».
В исканиях гармонической целостности культуры, ее религиозной правды древний мир открыл два принципа культурной целостности: антропологический и космологический. Первый был исчерпывающе определен Протагором в формуле: «Человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, не существующих — что они не существуют». В мире, где нет еще разделения на субъект и объект, эта формула виртуально выражает общую потенцию ценностей и, по сути, равнозначна открытию в человеке интуиции как предельной способности «включения в бытие», под формой которой внешняя и внутренняя истина неразличимы. С этой стороны формула «человек есть мера всех вещей…» выражает собой дидактический момент всякой истины, самое условие ее целомудренного продвижения и потенцирования. Однако взятая с онтологической стороны, эта формула оборачивается себе довлеющим принципом гуманизма. Чтобы целостность человека могла объединить множество своих определений,
Стр. 10
она должна развить формулу меры без риска выродиться в безмерный релятивизм, во всесторонний «формуляр» регламентаций. Именно эта редуцированная греческой софистикой первая «форма» гуманизма, несущая в себе всю неотвратимость самочинной анархии и плюрализма вместе с их культурными «предикатами»— пустозвонством, полузнайством и самодурством, и была главным объектом античной иронии и сарказма, «мишенью» могучего обстрела аристофановского смеха.
Но смех есть дистанцированная эстетическая реакция, своего рода жест прощения и искупления, подразумевающий другие возможности жизни. Изнутри же довлеющего себе гуманизма, в его самопереживании могло быть лишь предчувствие незавершенности человека как меры вещей, нервозная, глухая тоска и искание света. Смутная мечта Вергилия об Искупителе, томительные странствия его Энея — классическое выражение этих настроений, выходящих из берегов «homo mensura», равного себе героя античного мира.
Но еще в границах того же античного миропонимания была усмотрена другая возможность целомудренной жизни, основанная на таинстве любви. В этой «тоске по раю», угнездившейся в истоках каждой жизни, внутренне единой, но рассеченной на два пола и принуждающей все живое страстно искать свою целостность, Платон увидел божественного Эроса, одушевлением которого сущее переступает грани своей не сущей («меонической») разъединенности навстречу всеединству. Восхождение к абсолютно Единому приводит человека к величайшему откровению всей античной культуры — нездешнему царству идей — этой онтологической основе всякого символизма, навсегда вошедшей в историю человечества как универсальная парадигма высшего духовного подъема личности. Но, увы, только как парадигма! Платон остается пленником пластического чувства космоса, и в этом смысле радикально несвободен. Абсолютность человеческого самоопределения он мыслит лишь созерцательно и в элементе памяти, в порядке «анамнезиса»— смутного воспоминания души о былых странствиях в царстве идей, и этими воспоминаниями исчерпывается ее целостная жизнь.
Космологический принцип вечного возвращения, понимающий жизнь как «вздох» и «выдох» живого космического Существа, отказывает человеку в других свободах и даже любовь обращает в свою функцию. Предзаложенная в целесообразном строе Космоса любовь держит человека в отношении родства с державным принципом единства только символически и посредством меры — все той же вездесущей меры, за пределами которой человека ждет неотвратимая кара судьбы. Античная антропология безлична, то есть не свободна; и там, где человек восстает против этого, его ждет бытийная трагедия Рока. И меч Немезиды
Стр. 11
положен именно на границе правильной «взвешенности», мерности, соразмерности целого и частей. Не случайно в конце жизни Платон «поверяет» свою мистику света пифагорейской метафизикой числа: полномочия меры имеют в античном чувстве свободы неограниченную власть и заслоняют собой путь человека к свету Истины.
Христианский догмат Богочеловечества Христа буквально опрокидывает античную меру и совершает величайшую революцию в деле онтологического освобождения человека из плена мира и природы. Словом и крестным подвигом Христа впервые рождается как самая личность человека, так и понятие о ней. Ведь согласно этому догмату, Христос, пройдя через свою непорочную Мать, пречистую Деву, воспринимает всю человеческую реальность и, совокупляя в себе две природы, две воли, ставит их без умаления абсолютных различий в порядок «нераздельности и неразлучности» в одном ипостасном Лице. Таким образом, человеческая ипостась «усыновляется» Логосу и входит в недра Троичного Бога, который объемлет обе природы — совершенно полную и совершенно неполную, тварную и нетварную, без поглощения и умаления человеческого естества. Ибо войдя в безгрешное всецело и абсолютно, грешное абсолютно и всецело искупляется и этим открывает себе истинную возможность абсолютного обожения и блаженства.
В богословском смысле план всеединства «эмпирически» совершает один лишь Христос по своей богочеловеческой природе; исторически оно совершается соединением благодати божьей с человеческой свободой, собором непорочного человечества, оцерковленного вместе с Христом в Духе Святом; эсхатологически («предначертательно»)— все уже свершилось в свете преображения и осияния мира любовью и славой Святой Троицы, в недрах которой «всяческое стало всем» и навсегда пребывает «неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно» в славе и торжестве любви. Эсхатология Святой Троицы, таким образом, расковала трагедию «homo mensura» в грандиозную драму истории и в состав фаталистического и рокового ее конца, предвозвещенного пророками, ввела человеческую свободу и тем впервые открыла историю для испытания и риска. Не ждать и храниться, а бодрствовать и готовиться — таков ее живой императив, ибо богочеловеческий план истории в своей имманентности не кончается, а внезапно и катастрофически обрывается вместе с той гранью мира, которая болеет, страдает и порабощается грехом и смертью.
Таким образом, Богочеловек в христианском культе не есть новая мера всех вещей, вообще — не пример, не символ и не парадигма каких бы то ни было «форм» и «типов» свободы — умственной, нравственной, хозяйственной или эстетической. Богочеловек есть исторически и вместе мистически предвозвещенное
Стр. 12
событие, силой которого разлученность благодати и свободной воли человека устранилась реально, и вместе с ней отпала самая мера как ведущий критерий в отношении целого и частей. Отныне «царство Духа», привитое плоти человеческой истории, не мерою измеряет свою правду и свои начертательные цели.
Это вовсе не значит, что «старый мир» побежден и преодолен вместе с эмипирическими условиями его существования. Но он целиком воспринят и виртуально соотнесен с «Духом и Истиной» как в горизонте своего будущего, так и — своего прошлого, в которых смысл их собственного бытия потенцируется глубже исторически и футурически фиксированного содержания. Иными словами, воплощением Слова раздвигается и углубляется время, довлеющее настоящему, радикализируется самое временность. Но и прошлый и будущий план раскрытой истории отныне может потенцировать ее «начала и концы» только в фактическом синтезе человеческой свободы и промыслительной воли, так что момент «обратной связи» и «эффект Эдипа» являются сопредельными истории как ее, так сказать, парамнезис — зеркало кривизны в риске исторических искушений и испытаний.
Условия реализации спасительной воли Бога в христианском культе могут быть только личными, свободно избранными человеком. В этом смысле история есть «терпение Божье», и потому она «отпущена» в риск «навсегда» вплоть до полной катастрофы. Ибо Бог сотворил человека по своему образу и подобию совершенно свободным и может восстановить свое падшее творение только через свободу. Боговоплощением проявлено предельное, что может сделать сам Бог и как бесконечная мощь, и как бесконечная любовь.
Что это значит фактически?
Христос становится человеком по любви и, оставаясь Богом, открывает возможность для всякой плоти стать богом по благодати. Это не эллинская «теоретическая», а христианская фактическая возможность. В силу ее впервые в мире рождается глубочайший момент внутренней свободы личности — совесть. Это незнакомое древнему миру духовное начало личности выражает непримиримую («неслиянную») двуцентричность человека, повинно ведающего о собственном несовершенстве и недостаточной причастности бытию первичной реальности как святыне. В этом смысле совесть есть «брань Христа» внутри нас, призыв святыни, ставший призванием души. Максимализация призвания — обострение вины — требует «очищения» совести — покаяния. Покаяние есть катарсис совести, и мы здесь имеем въяве живой парадокс духовного порядка: то, что является наиболее глубоким и интимным осознанием себя лично, одновременно оборачивается всеобщим и предельно трансцендентным. Этот парадокс возникает сразу, без установления и этического обоснования, как самоочевидная данность,
Стр. 13
благодатный дар нового «измерения» мира, который уже не отнимется у человека даже при бытийственном снижении души.
В сущности, этим даром богочеловеческого со-ведения, со-оповещения христианская культура научается открывать тайну личности и этим созидать собор человеческой совести во Христе — воинствующую Церковь Божью. Не эллинским уподоблением, подражанием или вчувствованием, а целостным усмотрением «образа Божия», являющего личность, как она стоит перед лицом неистребимой Правды и Красоты и жаждет стать проницаемой для их благодатных энергий.
Но Христос воспринимает не только плоть, но и смерть, эту абсолютную меру греха, «плату ему», крайнюю грань проклятого бытия, срывающегося в небытие по недостатку Причастия. Но как безгрешный по своему исхождению из непорочной Девы, Христос не дает смерти никакой «дани», никакого шанса развязать естество человеческой плоти и тем восстает из смерти и «попирает» ее. Событием Воскресения из смерти и последующим ниспосланием Духа благодати безмерно раскрывается новое Причастие Богу, полнота Присутствия для всякого греха через максимальное принятие смерти «в себя» — покаянного обнажения в себе недостоиства и неправды.
В себе грех и зло неодолимы, так как не имеют самостоятельной сущности и являются моментом довлеющего себе «не» бытия, его несущим «меоном», рассечением и уничтожением единства в Боге. И есть только одна возможность в живой реальности «понять» природу зла — это возможность непосредственного опыта виновности и покаяния как единственном способе живого «ответа» твари своему творцу за смертоносное зло и несовершенство. Только в творческом чувстве вины, в покаянии зло становится живым опознанием собственного несовершенства и, стало быть, воистину уязвимым. Все другие способы и формы борьбы со злом являются вторичными и проблематичными, если они проходят мимо причины зла, которой нет вовне.
Впервые свобода личности находит свое определение в безмерном послушании Богу. Свобода и послушание — полюса одной и той же духовной реальности именно потому, что эта реальность — сама Любовь, единственная сила, способная пройти через страх небытия свободно, доверчиво и преданно.
Но даже и та свобода, которая не удерживает своего определения и становится «нервной», мятежной и неравной себе «возможностью выбора»,— и она устраняет преступление (против) своих границ уже не трагедией мести, не возмездием хищной «Судьбы», а мукой богооставленности — страданием и тоскою.
Ибо в мир впервые вошла любовь не в качестве родительной «функции» космического существа, ритмически обновляющего
Стр. 14
свое «телеологическое существование», но и не в качестве огненной и ярой ревности ветхозаветного Ягве, а как безмерная вплоть до Крестной смерти жертвенность в послушании, больше которой нет уже ничего даже у Бога.
Вот почему в христианском культе, изливающем свою энергию в культуру, любовь к ближнему есть самый презентативный знак любви к Богу, знак восстановленного богоподобия. Ибо недостаток любви есть недостаток внутреннего единства, каковое становится отрицанием единства вовне личности. Человек поэтому не может совершенствоваться без того, чтобы не осуществлять единство человеческой природы, и, по учению отцов Церкви, единственной «мерой» совершенства личности является «любовь к врагу». Этим не упраздняются положительные и отрицательные грани любви, ее страсть, ее ревность и т. п., но удостоверяется, что любовь и благодать в свете покаяния и искупления суть одно и то же. Ни в какой другой религии этого нет. Вот почему христианский культ, по верному определению Иоанна Дамаскина, посреди других культов мира есть то, чем является Христос посреди всех людей.
Но победа над смертью не только безмерно углубляет обособленную жизнь каждого, но и безгранично расширяет ее жизнь в глубину жизни. Других, и тех, кто уже умер, и тех, кто еще имеет родиться. Ибо раньше всех внешних определений любви необходимо знать благодатную правду о том, что она есть в сверхвременном своем бытии, в лоне Бога, в его Церкви, в которой различия между живыми и мертвыми побеждены любовью, а значит—«все живы». Именно потому, что эта жизнь «есть» до бытия вещей, она и возникает в вещах в качестве их сущности и —«после вещей»— в качестве их понятий, которые наше облагодатствованное мышление извлекает из сущности. И благодаря этому человек впервые становится существом вселенским не только созерцательно, «платонически», но и деятельно, по-христиански соединяясь с жизнью всего «видимого и невидимого» узами богосыновства.
Но возобновляя во Христе «образ и подобие», человек возвращает в реальность условия возрождения окружающей его и «проклятой за него» природы. Тем самым впервые уясняется и прославляется труд, считавшийся рабством в эпоху древнего язычества, и в свете ответственности человека за мировое хозяйство… с поверхности земли и природы совлекается антропоморфная «маска» и открывается реальный облик мира, освобожденного от темноты и грима непроглядности. С поразительным усмотрением этого момента апостол Павел говорит: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Рим. 8: 22—23).
Стр. 15
Однако деятельное участие в «домостроительстве спасения», направленное на все вверенное человеку мировое хозяйство, имеет свой центр во внутреннем мире личности, ибо творческий принцип жизни оправдан лишь тогда, когда он подчинен внутреннему духовному деланию «молитвы Иисусовой»: собиранию себя для воцерковления, обожения и спасения. «Истинная цель жизни нашей христианской,— говорит преподобный Серафим Саровский, — есть стяжание Духа Святого Божьего. Пост же, бдение, молитва, милость и всякое Христа ради делаемое добро — суть средства для стяжания Святого Духа Божьего» [1].
В сущности, этим выявляются пределы «овнешнения» христианской жизни и указывается надлежащее место эстетическому моменту в ней.
* * *
Вопрос может быть поставлен радикально (как он и стоял восемь первых веков культуры): не является ли для культа веры «в Духе и Истине» всякое чувственно-воззрительное отношение неким «контрабандным» возвращением древнего антропоморфизма, этого защитного инстинкта вездесущей человеческой меры. Ведь о «хождении верой, а не видением» (2 Кор. 5:7), о «не видевши любящих» (Ин. 1:7), о «блаженстве не видевших и уверовавших» (Ин. 20: 29) говорят и апостолы, и Отцы церкви.
Наиболее раннее суждение, прямо касающееся вопроса, принадлежит историку Евсевию, который на просьбу сестры императора Константина Великого прислать икону Спасителя, отвечал: «Кто же в состоянии изобразить мертвыми и бездушными красками и тенями издающий сияние и испускающий блистание лучей блеск славы и достоинства Его?.. Даже избранные ученики Его не могли взирать на Него на горе. Конечно, ты ищешь икону, изображающую Его в образе раба и во плоти, которою облекся ради нас; но мы научены, что и она (плоть) растворена славою Божества и поглощена жизнью». [2]
Подобные же определения руководили Эльвирским собором церквей в 305 году и так называемым иконоборческим Собором 754 года.
Но в IX веке восторжествовало истинное Православие, и его торжество может быть понято из различения апофатического и катафатического богословия.
Первое есть установленное на непостижимости Бога единственно возможное восхождение к Нему через отрицание всего, что Он не есть. Этот путь, открытый мистическим гением Платона, завершается экстазом: непосредственным выходом из тварного в нетварное, непостижимым и неизреченным озарением «ума» божественным светом истины.
Стр. 16
Второй путь выражает установку на явленное богоприсутствие в мире, его богопроявленность, софийность, тварную красоту. Этот «вязкий» путь языческой эстетики, ее культов и кумирен, не удалось пройти даже гению Плотина, несмотря на все усилия вырваться из плена пантеистического восприятия вселенной как одушевленного Существа. Глубина греха и смерти не позволяют этому существу собраться и ипостазироваться в единство Истины, Блага и Красоты. Недостает Любви, ее Силы.
Трагизм проблемы заключается в том, что синтез этих как бы противоположно направленных путей к богооткровению является здесь темой мысли, а не темой жизни, диалектикой понятий и представлений, но никогда – экзистенцией личности; и потому богооткровение роковым образом оборачивается религией красоты, эстетизацией мировой демонии, в стихии которой человек – игрушка на пиру богов.
Апофатическая богопроявленность Христа одинаково далека и от идолопоклонства и от мистического экстаза и вместе с тем чудесно раскрыта во всей катафатической полноте на Фаворской горе, где в пылании божественных энергий Христос открыл себя в единстве с Отцом и Духом. Этот нетварный Свет сокрыт для человека грехом и немощью, но Христос всем изумительным реализмом своего жизненного пути и подвига повернул эти немощь и грех нашим покаянием навстречу Фаворскому свету, и благодаря этому христианское богосознание и боговидение идет не просто путем диалектических синтезов апофатики и катафатики, но – «простирая руку» и «опираясь на Крест», церковно трезвея в экзистенциальной полноте Писания и в соборной полноте Предания.
…Красота в христианском культе, таким образом, не нуждается в оправдании. Она не оправдывается, а впервые раскрывается во всей богоявленной полноте и этим безгранично расширяет созерцательную способность человека. Античная мера красоты и здесь преодолена, ибо античный символизм (и это плохо понимается в истории эстетики) никогда не достигал такого безмерного сияния Света, какой явился на Фаворской горе и был после воскресения Христа разлит по всей вселенной как начало мировой Пасхи – торжества просветленного тела и всего космического строя. И согласно опытному богообщению, кто эту красоту познал, тот смотрит на явленную красоту природы как на «поврежденную», неполную, только репрезентирующую, в порядке парамнезиса бывающую «возле», «около», но принципиально иную.
Этим объясняется столь долгий путь к торжеству православной иконы, которая может быть удостоверена, воссоздана и воспринята только в свете умной победы догмата Преображения.
Стр. 17
Христианская церковь в социальном смысле есть общество людей, постоянно стоящих словно бы у «дверей», которыми прикрываются «входы» в благодатный мир Света. Можно сказать, что наиболее проявленным выражением этих священных «дверей» и является икона. Она не «произведение» искусства, а зримо означенная святыня, живой парадокс, прибывающий на границе между верой и надеждой, которые должны быть, а с другой стороны – любовью, которая Есть. Кто имеет эту любовь, тот эту границу преступил, но даже великий подвижник веры, заключивший любовь в свое сердце, довлеет своим чувствам и внешним формам жизни, а потому нуждается в том, чтобы их наставить «на путь», «оправить» богообразно и боголепно. В этом смысле икона есть «Перст», указующий двуцентричной природе человека правильный наклон души, удерживающий воображение в «узде» и в «ограде» от привходящих извне «образа и зрака», оберегающий «тщеславны ум» от тварных аффектов и сладострастия гнозы. Под этим углом зрения правильнее говорить, что не мы созерцаем икону, а она вопрошает о нас. Вот почему в символике строгого иконного письма (как, впрочем, и в культовой гимнологии, и во всей «огненной ограде» Евхаристии) сознательно опровергается всякая натуралистическая и фигуративная семиотика, и все средства художественного выражения покоятся на духовной конструкции тонко взвешенных и упорядоченных значений, не дающих никакого места, никакого «поощрения» ни миметическому, ни нарративному, ни коммуникативному эффекту. Еще раз: икона – не произведение искусства, а катарсический момент, если и достигается здесь, то именно на границе художественно обеспеченной аритмии между надеждой, верой и любовью; аскетическая, до «нищеты» доведенная фигуративность изображения иконы, внутренне застывшая, исполненная сосредоточенности и скорби, взрывается «контрапунктом» поистине ошеломляющей симфонии красок, светоносной прозрачности плоти, как бы горения и ликования небесных сфер.
Здесь катарсис – не эллинский аффект победоносно-мстительного бытия, восстанавливающего случайно нарушенный порядок жизни, а радостная удостоверенность ее незыблемой святости, здесь и сейчас износимой и всегда изобилующей. В таком «очищении» вся полнота человеческой экзистенции размыкает самозаконный состав чувственности, не дает ей «завихриться» и сгуститься в эмоцию художественного удовлетворения и наслаждения… По-христиански, нельзя «слишком красиво» живописать, «слишком выразительно» петь, как нельзя «слишком эмоционально» созерцать, а тем более – «потреблять». В отношении между «кающимся зрителем» и ликом иконы слишком много напряженной вовлеченности, волевой собранности, чтобы это отношение подпало под форму свободного и дистанцированного созерцания. Христианское искусство «служебно» и только тогда самообоснованно, когда оно – орудийная сила перехода психологического в онтологическое, онтологического в сотериологическое, жизненносущего в «спасаемое».
Стр. 18
Чему же оно служит? Оно служит предельно выносимому человеческим созерцанием и не поддающемуся эстетизации до конца молитвенному отношению «лицом к Лицу», достигаемому покаянно простым и целостным устремлением свободной воли жить «по воле Божьей». Без этой недвоящейся установки красота становится проводником демонических энергий, тонко провоцирующих сверхъестественные начала из самого естества человека.
Хорошо ли, плохо ли исполнена икона — это не главное, ибо богочеловеческая структура церкви сообщает всему ее организму постоянное и необходимое действие благодати. Это не личное соединение с ней через вдохновение или экстаз, а условно положенная форма святости, в которой удостоверена всеобщая «иконическая» истинность и объективность красоты, преображенной нетварным Светом благодати. Присутствие благодати функционально сообщается через канон, но благодать может стать духовной принадлежностью художника, «закваской» его творческой индивидуальности. Не «мания» и «экстаз», которые в античном мире были первыми признаками гения, непроизвольной и бес-сознательной его природы, а «бесстрастие», «сердечное внимание» и «трезвение»— вот знаки творческого настроения, условия приближения «конца канона» и начала действия иконического света красоты. Здесь культ и культура согласованы друг с другом и по исходящим началам, и по восходящим целям, претворяя, как и во всем другом, согласованность богочеловеческой воли в синергию взаимного откровения.
…И тем не менее корни кризиса средневековой культуры были заложены в ее культе, и можно даже сказать, что определяющая ее величие черта — колоссальная работа над идеей всеединства — была и ее трагическим моментом.
Нам сегодня — чу, герменевтика!— недоступно понимание мощи личных харизм апостолов и Отцов церкви, на глазах всего языческого мира творивших чудеса православной веры, вплоть до воскрешения мертвых (и в том непонимании преп. Серафим Саровский усматривал самый наглядный признак нашей богоотступнической убогости).
Исполненная поистине вселенского вдохновения, их вера горела уже, так сказать, огнем разных языков, но еще — не разных исторических воплощений. Эта вселенская окрыленность была в одной «ограде», сопредельной не столько ереси мысли, сколько ереси самой жизни, ее тотальной непросветленности и непреображенности. Глубина этой ереси жизни и была потенцированным определителем исторических путей культуры (и даже горизонтов эсхатологии), ибо христианство — не только Истина, но Путь и Жизнь, и чтобы привести всю жизнь в «ограду огня», нужно свободное согласие мира, его добровольное и решительное «да» евангельскому запросу и заданию.
Стр. 19
Средневековье не имеет еще личности, потенцированной на глубину евхаристического осознания греха и искупления. Поэтому могучая энергия религиозного синтеза трагически блуждает и теряется в схоластике сильной мысли, развивается вне и даже вопреки конкретной жизни, «проскальзывает» мимо ее эмпирического состава. Примат единого над многим увлекает идею целостности в платоновскую онтологию, где истину ждет пантеистическое поглощение непреображенным миром. Объединяющим сознание принципом становится символизм, представляющий собой с точки зрения каузального мышления «умственное короткое замыкание» (Хейзинга): взаимосвязь вещей он обнаруживает мгновенным скачком, не как связь между причиной и следствием, а как смысловую и целевую. Такое сознание делает человека меньше «практичным», больше «духовным», но это менее всего пневматически оцерковленная духовность, скорее душевность, способная не на веру в Истину, а на верования в мифы.
Невосчувствованная человечность Христа ослабляет дух личности, силу ее самостояния и иконический универсализм, а с этим — идею жертвенного искупления, покаянную любовь и боль за весь тварный мир. Человек не ищет и не любит ни своей, ни чужой индивидуальности и видит свою жизнь общезначимо и нормативно как жизнь «вообще». Без этого церковность лица, «чистая человечность» личности теряется и тонет в кровной теплоте племенного союза, в безличном и безымянном «теле» народности и государства. Виртуальные запросы религиозной тоталитарности, несущей в себе максимум просветленной и творческой свободы, в атмосфере радикального недостатка любви побеждаются государственным принудительным тоталитаризмом, который не любит свободу и гонит ее на задний двор своей культуры. Богочеловеческий процесс, таким образом, ограничивается и сужается в самих основаниях целостности: незавершимая вера и доверие между творцом и человеком виртуально завершается в абстрактном единстве, кристаллизуясь в интенциях «объективного» и «субъективного». Онтологический грех разорванности, разобщенности и отчужденности между Богом и человеком, между человеком, миром и людьми преодолевается всей культурой именно в элементе абстрактного дуализма субъективного и объективного, то есть рационалистически. Отсюда такое огромное место в культуре средневековья занимают формальные структуры рацио: техника диалектической гнозы, бесконечные классификации, схематизации, суммации и т. п. Несовершенная любовь восполняется «механическими» конструкциями вселенской гармонии и порядка.
Но и соборное сознание средневековья, не имея внутренних сил согласования свободы и послушания, колеблется в понимании догмата Богочеловека.
Стр. 20
Двуцентричность этого догмата, выражающая «неслиянность и нераздельность» двух природ в Иисусе Христе, наклоняет всю перспективу культуры в сторону понимания его природы — то, как абсолютно отличной от человека (монофизиты), то как абсолютно тождественной ему (несториане).
Одна сторона вела к усилению организационно-волевых функций культа, фактически сообщающих церкви не духовную, а административную миссию единства (вплоть до освящения инквизиции). Этому церковному латинству соответствует в практике богообщения обостренный аскетизм, вновь возбуждающий платонический дуализм с его манихейским презрением к чувственному и телесному и с его навыком видеть высшее состояние жизни в способности ума и умопостижения.
Другая сторона в апологетике человечности Христа увлекает культ к ассимиляции античного пантеизма со всей его социальной жестикуляцией; пышной эстетикой кумирни, подражанием божеству, гуманистическим мимесисом и натурализмом и т. п. Такое рассечение Христа было одновременно раздвоением культа и выходом культуры на просторы свободного развития и автономии.
В известном смысле этими словами вполне охарактеризован переворот в культуре, именуемой Ренессансом.
* * *
В истории искусства этот переворот почти равнозначен открытию «линейной перспективы» и хорошо изучен. С созерцательной точки зрения Ренессанс есть обеднение, ибо четырехмерный мир средневековья замещался трехмерным с вытекающим отсюда уплощением мира. Но именно через это обеднение был найден конструктивный путь к художественно-творческому созиданию новой виртуальной целостности культуры и к автаркии красоты.
Ренессанс — не возврат к античным принципам целостности, где пластическое понимание космоса виртуально завершалось «мифологическим изваянием богов» (А. Лосев) и культурным праздником антропоморфной «физики» телесных движений.
Ренессанс сохраняет цели старой культуры, но в ослабленной идее искупительной жертвы сразу берет бытие «вне» животворящего Креста и сотериологических исканий, т. е. завершенно. Свобода в завершенном мире попадает в ловушку равновесия и гармонии и тем самым имманентно подводит действительность под ценность красоты, в которой многообразие сущего должно гармонически «округлиться» и тем «спастись». Все душевное бытие человека через это «априори» художественного завершения победно выдвигается «впереди» самой идеи жертвенного становления каждой судьбы. И жизнь находит приют обеспеченности в созерцании и творчестве Красоты.
Стр. 21
В выражениях душевного переживания и самочувствия такая жизнь почти равна витальному инстинкту созидания, самой творческой спонтанности; отсюда невероятная продуктивность, ассимилирующая без посторонних затрат энергии всю предметную среду жизни. Эта продуктивность питается «от природного корня» художественного инстинкта — эроса, и потому эротика буквально обрушивается на старые и новые цели и ценности жизни вначале в качестве творческой энергии, затем бурным потоком наполняет содержание культуры изобилием эротики красоты.
Здесь визуальность красоты выступает «вперед» как «прафеномен» всех жизненных феноменов, настоящее гнездилище новой идеи целостности. Вот почему в этих условиях методу оптического наблюдения назначено быть исходным пунктом «естественного» объединения вещей, а трехмерной перспективе — априорной формой единства и целостности, что и сообщает искусству живописи почти гносеологический статус универсального зеркала «в браке» Неба и Земли. И эта поначалу спонтанная передвижка теоцентрического принципа всеединства в сторону антропоцентрической целостности обернулась настоящим обвалом старой культуры. Сам поистине титанический размах деятельности людей Ренессанса, взявших в творческий оборот «производства и распределения» вещей и предметов сакрализованной эротики огромные пространства земли, сотни городов, целые культурные комплексы тогдашней жизни — сам этот размах, составивший настоящую «антропосферу» Возрождения, говорит о масштабах притязаний и энтузиазма «прорабов ренессансного духа».
И действительно, новая целостность, включавшая в себя гораздо больший объем эмпирической действительности, обладала несравненной слаженностью целого и частей и давала возможность человеку с огромной внутренней поглощенностью включаться в дело. Даже сама бесконечность мира виделась как бескрайняя художественная мастерская, ждущая творца, и это говорит о том, что титанизм был лишь оформлением уже ранее состоявшегося снижения понятия о Сущем до уровня представления о нем в предметной форме красоты. Зато это обнищание бытия сулило значительный подъем и разворот внутренних сил, живую связку идеи и действия, более тесное отношение ценности и пользы. Ренессанс в этом смысле есть триумф в человеке человеческого, изживающего себя целиком в каждый момент жизни, до конца и как бы без остатка. Вот почему в процессе этой деятельности по утверждению абсолютной имманентности Бога всему человеческому впервые по-настоящему раскрыл свои потенции художественный гений человечества в собственном и наиболее полном смысле.
Но художественный гений Ренессанса не расправил бы крылья, если бы ему не отвечала в модусе созерцания и потребления искусства столь же оглушительно ярко раскрывшаяся способность самодовлеющего любования красотой.
Стр. 22
Не имевший ранее никаких шансов на самостоятельность художественного воплощения момент совпадения идеи и действительности, благодаря линейной перспективе, обеспечил себе почти визионерское схождение всего «видимого и невидимого». И это открытие несло в себе настоящее и неподдельное чудо завуалированного красотою Божьего мира.
В самом деле, какое безмерное счастье созерцать Богоматерь как земную, близкую, нежную женщину! И это чудо явлено здесь и теперь даровым образом: смотри в «окно» линейной перспективы изображения и «причащайся» невидимому как видимому, непостижимому как зримо данному. Глаз становится буквально фаворитом чувственной модальности, «новым Органоном» культуры, которая сулит невиданное расширение чувственной личности, небывалые наслаждения при почти абсолютной пассивности «остального» человека.
Что зрение есть «чистое» осязание — это знал еще Аристотель. Посредством световых лучей взгляд «бегает» по поверхности вещей, то ускоряя, то замедляя движение, скользит по «рельефу» всего сущего, не касаясь ничего физически, «ощупывает» все со всех сторон, молниеносно намечает свою «цель» и, не трогая вещь, не нарушая ее жизни, проникает внутрь тела, в «складки» его плоти и под формой абсолютной пассивности пленяет и подчиняет своему «легкому игу» и праздной воле едва ли не все на свете. Это ли не привилегия? Еще бы! Какое, действительно, упоительное блаженство созерцать Приснодеву как натуральную женщину! Анекдотический рассказ Вазари о том, что художник Паоло Учелло, увлеченный творчеством, на увещевания своей жены ложиться спать каждый раз повторял: «Однако сколь сладостна эта перспектива!» — оборачивается здесь почти исчерпывающим нарративом творческого процесса титана Возрождения. И лишь немногие увидели демонические тупики новой культуры [3].
Ведь природа красоты двулика и лукава. Не владея онтологической глубиной, она выражает сущее только «как бы», «намеком», предчувствием; находится «возле» и «около», надвое озаряет своим искусственным светом правду жизни, никогда не позволяет себе без риска самоистребления спуститься в низины греха и смерти и потому боится человеческой низости, немощи и ничтожества; чтобы быть приемлемой, держится ближе к общему нраву, вкусу, к двоящейся поверхности жизни, часто не открывает, а прикрывает безобразную бездну; и никто лучше, чем гений, не знает, что «муки творчества» — это не умолимая никакой молитвой, никаким постом недостижимая непросветленность красоты. Личность гения обречена всецело стать чувственным проводником такой красоты, ею максимализироваться, ею же и «спасаться». Но именно в силу этого не может спастись до конца от собственных грехов и смерти, составляющих «тело» чувственной красоты.
Стр. 23
Титанизм, взятый не в категории творческой мощи, а как повседневность жизни, как самочувствие личности вне творчества, оказался явной или скрытой трагедией и угрызением, злобой и жестокостью, кощунством и даже изуверством. Все эти черты и гримасы жизни вошли в «тело» культуры, в то «тело», которое, так сказать, пожелало, тихо и без скандала прикрываясь красотой, уклониться от крестного пути жизни и церковных оснований спасения.
Но шаг был сделан, в истории художественного производства и потребления был открыт целый материк новых эстетических переживаний, наслаждений и обольщений, и этот материк начал стремительно колонизироваться, заселяться и благоустраиваться за счет растущих дивидендов буржуазного индивидуализма.
* * *
В сущности, расцвет свободы — личной, творческой, научной, хозяйственной и всякой другой — есть расцвет буржуазии. Именно ей, единственному классу, выпала общекультурная задача исторической актуализации и социального оформления индивидуалистического типа личности.
Хорошо или плохо, но эта задача выполнялась буржуазией на почве христианства. Иначе и быть не могло: радикально дистанцируясь от чужого и чуждого себе, буржуазия перед угрозой тотального отчуждения эгоистически потенцировала свою собственную судьбу, языческая, хищная бытийность которой уже была развенчана христианством. Рассчитывать приходилось только на себя, на свои силы и возможности, и буржуазия невольно стала живым воплощением культа свободы, ибо этот культ был форсированным выравниванием тотальной безродности и обделенности любовью.
Свобода — судьба буржуазии, поэтому ее культура есть не что иное, как теоретическая и эмпирическая интерпретация культа свободы. Правда, громадное расширение социального ее объема (риск испытания которого шел со стороны христианского же требования равенства и братства) не могло не сузить онтологи-ческий смысл свободы постулатом соответствия сущности и ее беспрепятственного развертывания, то есть постулатом гарантированных возможностей выбора…
Индивидуализм — не просто форма жизни или ее принцип (в силу которого хищная психология субъекта стала заменой хищной судьбы), но новая реальность, где «первое» онтологическое обнаружение сущего есть «я». И по определению дела эта реальность не могла без риска самоустранения соотнести себя с соборной правдой, не осуществляя перевод всего состава культа в «иную» плоскость жизни.
Стр. 24
Исторической фиксацией этой перестройки была Реформация, а ее итогом стал протестантизм. Скажем кратко: протестуя против законнического и принудительного понимания свободы веры как послушания, сложившегося в римской церкви, против «этики воздаяния» и мелочности католической исповедальни, Лютер, в конце концов, отклонил Церковь вообще как живой богочеловеческий союз, собор святых и кающихся. И вместе с громадным упрощением пышного организма римской церкви, вместе с отменой теократии, иерархии и монастырей произошло предельное обнищание святынь и таинств христианского культа.
Религиозная судьба человека была решительно поставлена в зависимость от помыслов души, а не от заслуг и дел, так решительно, что таинство и помыслы даже вошли в диалектическую оппозицию друг другу (что и зафиксировано в крепком афоризме Лютера: «Каждый сам себе священник»), И хотя это богословствование «снизу» восстанавливало известную целостность личности, созидающей единство души изнутри, однако повлекло за собой настоящую перестройку оснований таинств культа.
Послушание, поставленное в субординационные отношения к свободе совести, а не авторитета и церковных установлений, обернулось на деле простым педагогическим моментом общей экономии жизни. Страшный лик Христа-Судьи заслонился образом бесконечно милосердного Иисуса, и Бог как Податель благодати стал «восстанавливать» поврежденный образ и подобие человека без молитвы, поста и креста.
В результате такой «разгруженности» греха сотериологический план спасения без сотрудничества человека в «воскресении мертвых и жизни будущего века» свернул эсхатологию в некую мистическую характерологию. Сотрудничество и участие человека в богочеловеческом домостроительстве перекрылось одним «доверием» и «упованием». Лишь огромный религиозный энтузиазм Лютера удерживал веру от фронтальной ассимиляции мирской культурой, и якорем спасения стало его учение о предопределении. Этот «преддетерминизм» твердо остался «за Богом» в «экономии благодати», но тем самым величайшая религиозная реальность — Святая Троица, непостижимый и свято хранимый соборной правдой Церкви источник всяческого бытия,— эта мистическая реальность потускнела и поблекла для молитвенного и аскетического трезвения земного бытия человека и его православной надежды и веры.
Таинство потому и таинство, что оно не может быть опознано, если не вошло в сознание человека. Но чтобы войти, оно должно быть дано, задано и оформлено как святыня, обряд, как свидетельство и сокровенное Имя. Однако Лютер и Меланхтон предпочитали вместо слова «таинство» слово «знак».
Стр. 25
И это едва ли не первое «семиотическое» начинание, форсированное партийной борьбой с Римом, усилило катафатическую сторону богообщения (главным образом через евангельский образ Христа)., но свела почти на нет богатейшую святоотеческую апофатику. Ослабление онтологической дисциплины ума, церковно закрепленного в Предании, вело к тому, что на место «духовной полиции» римской церкви, действительно не способствовавшей воспламенению веры, был утвержден релятивизм «этики помыслов», в которой эта вера вообще испепелялась, не возгораясь.
Можно сказать, что гений религиозной адаптации Лютера страстно хотел вернуть божественной Истине ее дидактический момент: человека как меру вещей. Но в постулатах буржуазной свободы этот момент был «выбран» в качестве всей соборной правды и стал религиозно культивироваться. Осуществленная симплификация таинств веры лишила ее собственной предметности, оставила человеку лишь возможность исполнения «роли» верующего, веру как приверженность. Вместе с презумпцией веротерпимости религиозная приверженность вступила в плюралистическое отношение со всем составом культуры и, решая проблемы жизни на свой страх и риск, открыла шлюзы для психологического и рационалистического наполнения веры. Лишенная авторитета Церкви ка хранительницы фондов святости и «пречистой человечности», личность вынуждена была опираться на себя, свою трезвость и осмотрительность, «гаtio» здесь ждал человека как единственная универсальная опора онтологических притязаний автономного «я». Он-то и сообщил вере ту динамичность и всеобщность, благодаря которым религиозно-морализированный индивидуализм стремительно пошел на сближение с принципом индивидуализма вообще.
Нам нет нужды входить в подробности этого хорошо изученного процесса, за исключением уже затронутого аспекта, который показал, что и художественная практика Ренессанса эпифинально имела тот же итог.
Открытая Ренессансом линейная перспектива, как уже было показано, конструирует дистанцию между человеком и миром в прямой зависимости от физических свойств глаза. Глаз становится, так сказать, принципом эманации субъекта, «исхождения» его сущности за пределы телесного существования, и в этом смысле визуальная перспектива лишь «математизирует» данный предел, синтезируя психологическое и математическое пространство, то есть объективируя субъективность. Величайший из титанов Возрождения Леонардо отождествит живопись с наукой, а науку — с «пространствопониманием». Этим все сказано.
Как объективированная субъективность перспектива содержит как бы «алиби» растущих запросов непросветленной чувственности: в отношении субъективности моя чувственность развивается ради все более уточненной объективности, в отношении же этой объективности моя субъективность развивается ради все более тонких форм моей сущности.
Стр. 26
На этих путях растущей объективации субъективности совершенствуется прежде всего сам метод синтеза субъекта и объекта, и рано или поздно культура приходит к открытию априорного принципа наблюдения, не зависящего ни от перспективы, ни от перцепций вообще. Этот принцип — разум, выглядывающий из своего «наблюдательного пункта», не имеющего, однако, локализации ни в органах чувств, ни в пространстве, ни во времени и несущего в себе наиболее объективную форму знания. Обладает ли этот самодеятельный «наблюдатель» устойчивыми и неизменными принципами? В чем они коренятся и могут ли эти принципы обеспечить достоверность знания реальности? Ведь и сон есть «наблюдаемая реальность»!
Все эти вопросы «усадили» философов Запада на целых три столетия за кропотливую и героическую работу, которая продолжается и доныне. Ее наиболее простым и цельным продуктом стала декартовская формула: «Мыслю, следовательно, существую».
В самом деле, раз нет «залогов» правды ни на небе, ни на земле, остается лишь одно, что еще может с достоверностью быть основой безосновности сущего — самое сомнение. Dubito ergo — сомневаюсь, следовательно существую, или — более общо: Cogito ergo sum.
Уже у Платона, Филона, но особенно у Августина эта формула встречалась и была как раз выражением онтологического доказательства бытия абсолютной Истины. Ибо здесь самоочевидность ее усматривалась не извне, не как предмет представления, а изнутри, как фактор внутренней жизни «я» в тождестве и неотмыслимом единстве с бытием вообще. Ведь никто не сомневается в том, что он живет, думает, понимает… и даже, если сомневается, что живет, то как сомневающийся есть, то есть существует в качестве изнутри раскрывающегося (в «форме» сомнения) бытия. Но если «я», живя вообще, сомневается, ему назначено сомневаться только в истине, ибо вне истины нельзя не только сомневаться, но и мыслить вообще. Следовательно, вне сомнения есть то Сущее, которое присуще моей жизни, объединяет меня с ним и со всеми в нем. Ибо Сущее одно на всех, мы в нем, не теряя себя, сами суть, и в акте нашего самосознания присутствуем в откровении бытия вообще, которое нами и через нас раскрывается и озаряет самое себя. И здесь нет места никакому скепсису, как нет места сомнению, что я вижу мир глазами — единством зрения и света. Здесь реальность как таковая раскрывается максимально конкретно и совпадает с жизнью вообще как полнотой всего во всем.
Стр. 27
Декарт, разумеется, мало повинен в том, что такое онтологическое понимание природы мысли стало производным от самосознания субъекта. Весь гигантский напор общекультурных интенций, виртуально направленный к единству и целостности бытия как имманентных индивидуальному «я», вынуждал внутреннее бытие «отмысливать» себя от жизненной конкретности, отступать от нее и радикально сомневаться в ней. И в конце концов целостность Истины стала имманентна сознанию, внутренняя его жизнь обнищала и сжалась в чистый, бесстрастный, зато небывало сосредоточенный субъект, в некий «познавательный пункт», исчерпывающий собой все сущее.
Назвать это абсолютным субъективизмом еще нельзя, здесь еще нет отрицания объективной природы, но раз вся активность бытия перетекла в сознание, природа стала пассивной, плоской, протяженной величиной, абсолютно доступным «объектом» познания.
Такая метаморфоза была, конечно, тяжелой изменой ренессансному титанизму с его могучим чувством природы и исполинской энергией преобразовательной деятельности. Зато из семени субъективного априоризма стала развиваться в первоклассную культурную силу другая способность, лишенная, правда, былого размаха и воодушевления, зато оснащенная практической основательностью, трезвой и строгой целесообразностью. Эта сила — рационализм.
Ренессансный динамизм свертывается и переводится в методологизм, оставаясь лишь в качестве «заднего фона» творческого настроения. Впрочем, и настроение, поскольку оно остается объектом сомнения и критики, должно подчиняться не эмоциям и страстям, а правилам и процедурам рационального мышления.
Таким образом, субъективная сторона отношения свободы и благодатной силы сущего испаряется, и в этой, так сказать, меонической выветренности отношений громче зазвучал все тот же шепот лукавого, прильнувшего к Еве: «Будете как Боги». Здесь это «как» получает новую стратегию виртуального порядка, подводящую творческий энтузиазм человека под форму рациональности. Впервые сделано самое дерзкое онтологическое допущение, что реальность сущего, в которую вовлечен человек, можно понять в тех же терминах, что и объективный мир знания и на этой основе создать полную теорию практики (тайная мечта Лейбница). В этой решительной ставке на всестороннюю унификацию мышления и бытия, о которой мог только мечтать Платон, была в случае выигрыша заложена целевая установка на разгадку самой рациональности как могущественнейшего средства господства человека над природой.
Стр. 28
«Cogitatio», взятое культурологически, есть не что иное, как техника научной деятельности, притом в ее наиболее отвлеченной форме математического мышления. Этот чистый экстракт эмансипированной от жизни работы мозга имеет свой этический императив, выраженный Спинозой внятно и сильно: «не плакать, не смеяться, а понимать». В той мере, в какой вообще можно «отделаться» от сущего, этот императив есть своеобразный культ, в коем можно найти и свою героику, и «аскетику», и даже «святость», но весь его «ритуал» и вся «служба» подчиняются априоризму рацио, в котором сущему отказано быть логостным и творческим началом.
Самозаконности разума назначено здесь мыслить бытие исключительно как отвлеченное понятие, и именно как отвлеченная абстракция бытие содержит всякий раз лишь то, что в него полагается и вмысливается. Таким образом, безосновность бытия оборачивается основой его плюралистического истолкования и интерпретации.
У Канта это обстоятельство доводится до категориального совершенства: его разум вносит и формирует в бытии априорные представления о пространстве, времени, о множественности вещей и их причинной связи, а та сила, которая побуждает разум к этой деятельности, есть иррациональная «вещь в себе». Поэтому самое подходящее дело — не принимать иного бытия, кроме разума, и жить так, как если бы бытие было предметом нашего представления.
Вся европейская история есть именно это становление бытия, как «если бы» оно было предметной формой гипотезы знания и самим знанием.
Не случайно П.А. Флоренский называет Канта настоящим отцом интеллигенции, то есть специализированного класса разумных людей, которые занимаются проблемами жизни без прямого отношения к самой жизни, своего рода священниками отвлеченного мира.
Но в этом историческом углублении меонизма выявилась великая проблема, поставленная Кантом в качестве «пролегоменов» ко всякой религиозной метафизике. Перенеся центр тяжести с идеи онтологического единства бытия на теоретическое единство сознания, Кант обнаружил, что осмос трансцендентного и имманентного не является натурализованной взаимностью и что между Богом, миром и человеком есть таинственная духовная инстанция, отвечающая как за их единство, так и за вражду. Эта инстанция — свобода, и она образует своего рода горизонт разума, его предел, сама оставаясь за этим пределом как безусловная и непостижимая вещь в себе.
Стр. 29
Личность, таким образом, в той мере вообще есть, в какой она есть свобода, начало и завершение, первая и последняя величина всей духовной жизни, силой которой только и могут быть решены и исполнены все антиномии и антитезы субъекта.
Тем самым Кант окончательно развенчал право платоновской софиологии, основанной на биологической онтологии, быть методом познания души и Бога и в категориях трансцендентализма радикально поставил проблему христианского Причастия — пневматичность свободы. Ибо свобода — это не что иное, как та духовная почва, на которой творится неслиянность и нераздельность, на которую вышел Сеятель сеять, и эта почва духа вольна стать тем, чем она решает быть: «придорожной пылью» суеверного ума, каменной нераскаянностью сердца, терниями страстей или житницей правды. Только свобода вольна сказать «да» или «нет», только она и является онтологической основой всякой принципиальной религиозности. Религия истинна, когда она свободна, и свобода истинна, когда она религиозна. В горизонте личной эсхатологии эта когерентность свободы и благодати требует радикальной критики ханжеского благочестия и всякого сакрального обрядоверия; в горизонте же исторической эсхатологии исход грядущего схождения и борьбы мировых религий будет решаться именно на глубине свободы и только ее пневматической силой.
Но если свобода «я» очевидна, то очевидна и ее религиозная исполненность в Богочеловеке. Иначе «я» не абсолютно свободно. Ведь актуализация «я» до степени огненного откровения свободы требует актуализации личности до «степени» ее богоподобия — абсолютной любви вплоть до крестной смерти. Такова бездонная глубина христианской свободы, о которой Бог говорит людям: «Вы — боги и сыны Всевышнего — все вы» (Пс. 81: 6), и апостол возвещает: «К свободе призваны Вы, братья, только бы свобода (ваша) не была поводом к угождению плоти» (Гал. 5:13).
Однако эти выводы были запредельны самому кантовскому заданию; и аскетический подъем к благодатной свободе, и ее молитвенное исповедание и исполнение своеобразно вульгаризируются у него в головную эвиденцию, в методику восхождения разума на степень «ясности» и «очевидности» знания. «Угождение плоти» было не только грехом, но и типом зрения, и потому победа над биологическим онтологизмом не стала победой над биологическим гносеологизмом.
Кант постигает тайну свободы мужественно, но как бы из-за угла: не ее огненную святость, а ее категориальную устроенность, не запредельную пневматичность, а стяженную самообоснованность. С этой точки зрения свобода может быть фиксирована только этически, как проблема выбора, установка воли, наконец, как самое решимость быть или не быть, но не как исполненность и решенность. В смысловой бифуркации свободы происходит уравнивание веры в Бога с верой в нравственный закон. Свобода, не идущая на крестную смерть по недостатку и несовершенству любви, решается на любовь по чувству долга и внутреннему убеждению.
Стр. 30
Кантовская философия была выражением христианской проблематичности буржуазии, и потому она ярко социоцентрична, презентативна и продуктивна. Выражаясь отнюдь не фигурально, кантианство стало своего рода бухгалтерией культуры, уполномоченной рассчитать и оплатить тонко выверенную меру между свободой и порядком, благодушной сентиментальностью и суровой трезвостью и т. п. и в этой сбалансированности антиномий жизни тихо выкупить из сакральной сферы область автономного мирского бытия. Видимо, это был звездный час культуры вообще: хорошо прочерченная грань самостоятельности сделала ее гарантированным и безопасным пространством творческих потенций, наполнила чувством достоинства, уверенностью и оптимизмом; в такой атмосфере культура почти полностью вобрала в себя индивидуальную конечность как таковую. Недаром смерть истолковывается в этой бухгалтерии как естественная «связка» индивида и рода, «момент» их непрерывного развития, малостоящая «предикабилия», говоря языком Канта. Смерть оказалась менее «очевидной» и «достоверной», чем абстрактные лозунги Просвещения. Вот почему именно с этой поры культура наделяется почти сакральной презумпцией благодушной самодостаточности, и в этой предельной для рационализма исповедальности и исполненное общезначимой ценности жизни вообще культура быстро привыкает смотреть на свое собственное происхождение с высоты оптимистической веры в ничем не ограниченный прогресс.
Известный трагикомизм положения заключается в том, что в этом «срединном» способе благодушия человеческая душа довлеет своим истокам и продолжает удивляться звездному небу над ней и чувству долга в ней. Это удивление постоянно возбуждается, но остается онтологически не проясненным, и душа обретает навык смотреть на себя и на все «сквозь пальцы» (Фр. Шлегель), то есть иронически. Ирония и есть в несколько скисшем бытии скисшая форма покаяния, дитя факультативного благодушия, «теплохладного» состояния совести, ее, так сказать, «ни то ни се» в чувстве религиозной ответственности. И чем богаче основания для такой иронии, тем серьезнее страхование опасной свободы категорическим императивом, мало-помалу наделяющим моральное долженствование санкциями юрисдикции, а с другой стороны — нормами сакрального порядка.
Однако регламентации и опосредования могут затушевать, но не погасить религиозные искания души. И там, где в безлюбом мире душа продолжает жить сама по себе, в ней набирает «вес» ее бессознательное, она кружит и нудится «в себе», исполненная неизбывной тоски и томления. Это основной аффект романтизма, признаками которого весьма ярко одушевляется виртуальное единство целой культурной эпохи.
Стр. 31
В сущности, если возможна мистика в кантовском трансцендентальном «опыте», она и будет романтическим томлением и тоской. Принципиально прочерченная Кантом граница между «материальной» сущностью и «идеальным» явлением чрезвычайно обострили видение невидимых граней становления сущего. Но благодатный свет истины, перекрытый острой рациональной пытливостью, нигде не находит приюта и остается жить как бы изгоем души, высвечивая лишь ее неполноту и несовершенство, ее боль и страдание. Бытию как «вещи в себе» может «отчетливо» отвечать только метафизика небытия, обнажающая опустошенную душевность, ее тоску и вопль «Боже мой, для чего ты меня оставил?»
Романтик заочно, еще до смерти, доводит разлучение души и тела до крайности, и в этой разлученности единственным в своем роде причастием божеству становятся боль и печаль души. Этим «мыслит» романтическая душа. Все запасы ее любви и энтузиазма отданы борьбе с презренным миром, со слепой властью вещей и пожравшим бытие жадным и суетным бытом; и где не найдено ни атома святости, где зло оплотнилось и «овнешнило» всю судьбу человека и весь космос, внутренняя установка на софийность мира не могла быть ничем, кроме боли и тоски. Напряженное противоречие между сущим и существованием безнадежно заглушило внутреннее оповещение об искупительной жертве, и сердце, не сокрушенное, но лишь озлобленное, не было способно постичь и пережить Воскресение как новый закон твари и зарю новой реальности. Вот почему смерть как Богом положенный предел расколотости жизни, ее распада приветствуется здесь как спасение. Правде безблагодатной души в неизследимости ее исканий спасения назначено изъявиться лирикой смерти, умирать и любить себя в умирании, возрождать в себе жизнь за счет влекущей тайны смерти.
Эротическое отношение к смерти как блаженству слияния с божеством держится не любовью к Богу и к людям, а ненавистью к жизни и жаждой развоплощения. Не смерть враг, а мучительная жизнь, пустые бездны космоса и пустые бездны души примиряются здесь, в «послушании» смерти, в доверчивом приятии ее сладкой истомы, разрешающей узы земного естества.
Эта жуткая «сотериология» романтизма, утратившего духовную зрячесть в, постижении святой и смиренной простоты жизни, кажется, обнажает сам первородный грех — полную оставленность любовью, умирание без смерти, всестороннюю охваченность страданием.
Стр. 32
Поражается центральный нерв крестного существования — воля к жизни, единственный надежный щит против возвратного прилива языческой резиньяции. Отсюда понятны ветвящиеся интеллектуальные побеги романтизма от животворящего Креста и просветляющей аскезы в буддизм, нирвану и т. п. мистику гашения жизни. Это уже настоящий срыв не только с церковного, но вообще христианского круга жизни.
Но в этом срыве есть творческое углубление христианской проблемы смерти. Ибо откровение смерти потому и сулит «неизъяснимы наслажденья», что смерть вошла в самые истоки и источники жизни и таится «рядом» с ее рискованной исполненностью и предельной максимализацией. Такая максимализация жизни во Христе есть беспредельная любовь, победно проходящая «сквозь» смерть без распада и разлучения тела, души и духа. Крестный подвиг Христа ставит смерть в зависимость от свободно понесенного каждой жизнью Креста, и как каждый живет неполно, так и неполно умирает. Только смерть во Христе попирает ее натуральную силу — распад и тлен плоти. Но умереть во Христе — значит сподобиться, чтобы Он умирал со мною и во мне, то есть принимал на себя мои грехи — главную дань смерти, и тем спасал мою смертность.
Конечно, всякое поражение и даже срыв на христианской почве безмерного онтологического богатства таит в себе диалектический момент победы. И отлив романтической резиньяции в слово и звук, «на кончик» пера и кисти, обернулся целым космосом эстетических открытий, небывалым обновлением художественных средств и безудержной раскованностью воображения. Необеспеченная и невысветленная изнутри душа романтика стала жадно внимать таинственным возможностям жизни самой по себе, прильнула к духовным кладам прошлого и сокровищам народного фольклора, намагнитилась почвенностью национальной жизни, огромностью запасов ее хтонических сил и все взяла под неусыпный контроль разбуженного мистического слуха и зрения и претворила в лирику. Романтический гений — сама задушевность, потерявшая слова и ставшая музыкой воспаленная и бесприютная любовь. Без преувеличения можно сказать, что романтизм явился выразить в элементе музыки всю трагическую онтологию безблагодатного мира. И эта эсхатологическая тревога, ужас и трепет ожидания — до детской незащищенности — едва ли не самый ценный вклад, который вносит романтизм в христианскую культуру.
Но не об этом речь, точнее, не только об этом… Вместо чистой и полной человечности, способной возродить личность к восприятию благодати, романтизм культивирует произвольную полноту чистой субъективности и, таким образом, продуктивной способностью воображения хочет тайно подменить исповедальную сущность свободы.
Стр. 33
Художественный гений буквально манифестируется центральной силой субстанциальных потенций бытия, его искупительной жертвой, приносимой миру через вдохновение и очистительный ритм бесконечных инспираций и перевоплощений (Шеллинг). Романтический гений, заигранный магией нереализованных потенций, становится по самозванному чувству словно бы священным лицом новых жизненных заветов и обетований. Но необеспеченное по существу соборной правдой церковной духовности, это призвание превращается в истинное наказание и кару судьбы за незаконную жажду власти над миром горним и дольним. Метафизика красоты, там, где она добывается не из контакта с миром, а sub species mortis, превращает мир в чертовщину, в чарование и ворожбу у края «адской бездны».
Культ творчества, форсированный ритмами и целями сакральной демонологии, формирует культуру, которую Гете метко назвал школой «форсированных талантов», стремящихся к тому, что превышает их силы.4 Перестав быть радостью бытийного одушевления и самопреодоления, творчество отныне пускается в проповедь без спроса извне, приспосабливается к моде, паразитирует на великих идеях; утомляясь в плену технических исканий, оно обряжает былой трепет и тоску души сложной оснасткой диалектики, имитирует величие в абстрактном времени и пространстве и, становясь, по определению Гете, «лазаретной поэзией», все чаще узнает срывы в откровенный натурализм и даже цинизм.
* * *
Нет ничего странного в том, что романтическому срыву может быть объявлен бой не на жизнь, а на смерть, притом на смерть крестную. Речь идет о восстании воли против всего и всех, о восстании навсегда, как последнем риске, в котором рискующий решился принести свою жизнь на алтарь великого «Нет» и Земле, и Небу.
Конечно, в этой решимости есть подлинное обаяние мощи духа, бунтующего против бастионов исторической лжи, особенно, если это бунт против зачарованного круга сакральной пошлости — христианского просветительства и сентиментализма, превратившего трагическую судьбу мира и неопалимую тайну Креста в дряблую доктрину милосердия и душевного попечительства…
Но протест этот в самой своей основе декадентский и упадочный.
Холодная и яростная решимость свободы здесь отделяется от содержания и становится форпостом довлеющей себе Воли к власти, кроме которой ничего стоящего в мире нет. Эта творческая воля умеет преодолеть не только иное себя, но и свой инстинкт самосохранения и все подчинить «максимально человеческому» и «сверхчеловеческому» подъему. Воля к абсолютной власти творит великое «Нет» и защищается от своей необеспечен-
Стр. 34
ности и фатума тотального нигилизма актами нескончаемого становления, неудержимого дистанцирования от каждой новой объективации. Сжигая ее огнем критики и опирая стопу на разоблаченный «труп», она вновь и вновь в ритме отрицаний обретает живую силу и восторг и восходит к своей абсолютности. Но как кратер вулкана, извергающий на весь мир огненную лаву и пережигающий на своем пути все и вся, это абсолютное отрицание является восходящей «имманентностью» пустоты. И вот эта «черная» апофатика подступает вплотную к последней духовной высоте и вопрошает: «Был ли вообще Дух, абсолютно владевший объективацией, и было ли Слово плотью?» И поскольку отрицательный ответ означает безумие и торжество биологического дарвинизма, жизненного скотства и пошлости — главных врагов аристократической воли,— ответ гласит: «Бог умер. Умер в нас и за нас, значит, «приказал» нашей свободе жить и умирать на кресте нашей и только нашей воли». Неудивительно, что вопрос «Для чего нужна эта воля в пустом теперь мире?» получает ответ: «Задача — само бодрствование» [5].
Таким образом, абсолютное «Нет», всадив, что называется, нож в спину духовному строю жизни, оставляет ей жалкую альтернативу: играть или быть ничем. Такой сценарий жизни просто обязывает живую душу войти в «дионисийский круг», закружиться и раствориться в нем до конца и в безумных ритмах его экстаза «выплеснуть» из себя дряблость и лень, боль и тоску. Невинность зверей и детей в этом круге жизни характерологичны (а перед кем, кому и за что теперь виниться?) и определяют образ и подобие сверхчеловека, его «небесные» черты. Любовь и жизнь, следовательно, оборачиваются здесь любовью к поверхности жизни, вернее, поверхность и становится поглощающей все глубиной, и потому она достигается духом не через крест и аскезу, а игриво и легко. Таков новый метод виртуального синтеза и целостности «бодрствующей» культуры, ингредиентами которой становятся «веселая наука», «спортивная жизнь», «играющая любовь»; это — своего рода «духи» тела, иронически прилежащие былой духовности, «духи» плоти, позволяющие теперь страстям открыто делать свое дело.
Легко увидеть в этом «культе бодрствования» своего рода эротическую иннервацию титанизма, ставшего пустой и голой интенсивностью, витальной энергией существования духовно дезавуированного бытия. Его рискующая решимость и крестный путь — жест смертельно раненного хищника, так сказать, риск разбойника неблагоразумного, левого от Христа, распятого и в собственной муке злорадствующего о Христе. Вопреки распространенному мнению подчеркнем, что эрос ницшеанского философствования глубоко меоничен, он задирист и криклив, но бескрыл и малопродуктивен, потому что экспериментальный по заданию, он всецело укоренен в рационализме и является его романтической изнанкой.
Стр. 35
Страшная участь Ницше показала, что рационализм, профилирующий себя на романтических «ветрах» духовной проблематики до конца, до исчерпания своих границ, изъявляется двоящейся демонией сознания: сатанинской остротой видения зла и сатанинским отрицанием благодатных порядков мира. Страшно сбылись слова Гете: судьбой крупнейшего из «форсированных талантов» действительно стал лазарет.
Так в риске исторических возможностей свободы сполна оплачивается ценность абсолютного индивидуализма. Здесь его предел и «камень преткновения». Чтобы переступить этот предел, необходима не сверхчеловеческая, а святая воля,— воля, способная сокрушить не только чужую мысль, но и себя, свое сердце и всего человека, и в нищете духа, не имеющем уже ничего бессознательного, войти смиренно в единение с Божьей любовью, исполниться ею и тем претворить веру в обоснованное (хотя и не дискурсивное) знание, в котором раскрывается и уже ликует соборная правда ума. В этом состоит «гнозис» христианского сознания и краеугольный камень его онтологического Причастия.
Богочеловек — всеединая Личность, Причастием к которой творится всякая личность и весь тварный мир. Недостаток личного бытия отражает недостаток мира, его тварность, его непроглядность, и Причастие есть именно причастие, то есть ограниченное единство, частичная обезличенность и частичная лицепричастность.
Человек как богоподобная тайна может так внутренне распределиться, что «уместится» в вечности, в горизонте целого мира, но и на узком пятачке своего пупа. Сколько нужно «бытия», чтобы человек сказал: «Ессе homo!» — «Я есть сущий!»? Какова абсолютная «мера» Причастия? И есть ли она для человека? Человеком ли только начинается и завершается в мире возможность откровения бытия? — это вопросы вопросов, и ответ на них не даст ни святость, ни гениальность. Ответ у Бога и в конце истории, о которой Он сказал: «Времени конца не знает никто…»
Бог держит будущее у Себя и не отдает его ни пророку, ни футурологу, ибо повелел человеку быть свободным в искании благодати и обожения и не может пересмотреть свою собственную Волю.
Если же мысль человека хочет сокрушить непроглядность тварного мира силой своего онтологического несовершенства, оно в своем героическом упорстве и упрямстве оборачивается ложным подвижничеством и рано или поздно предстает бессознательной осатанелостью души.
Стр. 36
Ее эксперименты тем и опасны, что в прикосновении к подлинной силе мирового зла она сама опаляется и заглушает Божий зов и призвание; мимируя же радость жизни, ее наивную и светлую стороны фикциями игры и веселости, она методически углубляет и расширяет реальную власть имитирующего «отца Лжи» и тем прокладывает пути Антихристу жизни.
«Без Меня не можете творить ничего»,— говорит Господь. Но творить с Ним — значит творить Его средствами и Его же целями, испытывать все, но Его держаться до смерти.
* * *
Не странно, однако, что культ сверхчеловека, родившись на свет факультативной культуры, неотвратимо социализируется. И это есть самая большая опасность, когда-либо возникавшая на христианской почве. Ибо культ «веселой науки жизни» как никакой другой открыт для вульгаризации и только затаился, чтобы из теоретической эзотерии и декадентского клуба вырваться на просторы вольной жизни. Ведь жизнь — это совокупность житейских возможностей, круг наличного выбора, и если чистая и бодрящая активность легализованы и жизнь предоставлена собственным инстинктам, она охотно и легко подчиняется любому делу и любому плану, сулящему веселость и легкость самочувствия.
Во всяком случае, возможность срыва культуры не только с христианского круга, но с моральной орбиты вообще здесь уже запрограммирована и ждет своего часа. Правда, для реализации программы необходим не только культ «вождя», но и существенное омассовление культуры, появление «человека массы», безличной индивидуальности. Слагаемые этой величины выросли не вдруг, но довольно быстро — и блестяще выявлены в литературе (Герцен, Ратенау, Шпенглер, Ортега-и-Гассет и др.). Они просты и могут быть кратко охарактеризованы как своего рода социализация кантовского «субъективного априори»: рост общей власти человека над пространством, временем и природой, максимализация конкретного мира явлений, минимализация духовной насыщенности и религиозной одушевленности; рост численности людей и рационализация их отношений, рост либерализации и вымирание традиционных иерархий и авторитетов, рост фондов безопасной и беззаботной жизни, в силу которых возбужденная романтиками тревога и настороженность перед будущим стала нейтрализоваться более или менее устойчивой психологией наивного культурного иждивения и «наплевизма»… Словом, рост «обывательского тела» срединной культуры, «вертикальное вторжение варварства» (как метко сказал Ратенау), появление «самодержавной толпы сплоченной посредственности, готовой есть, слушать, смотреть все без разбору» (как не менее метко выразился Герцен).
Стр. 37
Обывательская повседневность становилась не только областью житейского попечения (что естественно в жизненных порядках), но в некотором роде — новой реальностью бытия, подавленного бытом, резко сузившего внутреннюю определенность и распределенность личных моментов всеединства как сферы обитания Логоса.
Это и есть обезличенная культура человека «массы».
Но парадокс в том, что гордому и суровому «Ессе homo» все более громко и весело аукалось ответное: «И я тоже…»; и в эту новую ноту культуры обыватель вносит статистически весомую предикацию «слишком человеческого»: выветренное от вины и греха посконное самодовольство, глазастую ревность о равноправии и равномыслии, хлопотливый и небрезгующий гедонизм мелочей, густо затоваренное воображение, неудержимо калякающую эпопею склоки и много-много другого. Есть, конечно, большие поводы, чтобы, не шутя и не играя, отпрянуть и взвинтиться Заратустрой…
Но если говорить всерьез, то центральным и синтезирующим все эти обстоятельства моментом выступила социальность как особая материя жизни. Она начинает рационально руководить познающей мыслью и ставить перед ней свои религиозные проблемы.
Что реальная жизнь ставит личность не в одинокую позицию между бесконечностью мира, души и космоса, а в горячую точку пересечения социальных сил, событий, сотканных до, вне и вокруг человека — это не была новость. Новость в том, что в социальной всеобщности личности, впервые рационально осмысленной Гегелем, стал усматриваться более богатый источник виртуальной целостности культуры — так сказать, метафизика общественности.
Обыгрывание внутренней формы этого понятия имеет много смыслов, но в отношении к исходным моментам религиозной серьезности жизни это понятие является редуцированным мифом Церкви как единственного сверхприродного организма, несущего в себе полный синтез свободы и благодати, «чистую и максимальную человечность», в которой светится триподобное единство «я», «ты», «мы» и которой одушевляется всякая иная (в том числе и гражданская) общественность.
Как уже отмечалось, протестантская психологизация индивидуального сознания наклонила весь строй церковной целостности в сторону индивидуального «я». Однако готовность к риску жизни, без которого немыслима свобода и достоинство «я», требовала маркировки границ безопасности. По-житейски, где нет любви к ближнему, лучше все же корректность и учтивость, чем цинизм и наглость. Категорический императив Канта и есть предельное предвидение границ риска свободы, и в этом предвидении общественность является несущей конструкцией всей культурной постройки, настоящей надеждой и верой индивида. Вообще, психологически потенцированное факультативами «срединной» культуры сознание индивида имеет своей актуально-всеобщей
Стр. 38
конкретностью именно общественность и ничего больше. Выслеживая эту конкретность до конца, мы получим гегелевскую диалектике «всеобщего духа».
Беда, однако, в том, что пределы этого духа диалектически неисследимы, ибо, как показали итоги мужественной философии Гегеля, субъективное «я», повернутое вовнутрь, к глубинам спонтанности, не имеет выхода и сознает свое существование как беспокойство в себе»; когда же субъект трансцендирует вовне, он завершает себя в стихии мышления о всеобщем и никогда не достигает благодатных ступеней святости духа. Пределом этого трансцендирования является «суждение в бесконечной форме», [6] и это все, на что способна «соборная» чуткость абстрактного мышления вообще.
Неудивительно, что спекулятивная комбинаторика идеи синтеза человека и общества поставила их в порядок гносеологической когерентности, и миф общественности был разбужен для серьезной смысловой жизни.
По существу, в рациональной организации хозяйства и демократическом устройстве гражданской целостности был преднайден наиболее репрезентативный источник суждения о всеобщей сущности, сулящий комфортабельное убежище от «беспокойства в себе». Легко видеть в этой новой эйфории человеческой свободы неосознанную капитуляцию перед настоящей глубиной зла, состоявшуюся за счет мечтательной идеализации перспектив. Поправлять дела не своей жертвенной любовью, а за счет духовных фондов жизни будущих, еще не родившихся людей, с которых пока и спросу нет,- это и есть извращенный способ «аскезы» эпохи утопических культов. Социологизированная культура, таким образом, проявляет себя здесь узурпатором будущего, и в этом ее внутренний парадокс. Но опытное изобличение этой идеализации перспектив обратно пропорционально факультативной свободе культуры от культа. И потому цели общественного устройства не только захватывают и увлекают, но возбуждают почти сакральный пафос служения, настоящую героику и жертвенность борьбы. Правда, отдавая себя будущему всецело и до конца, революционер всецело отказывается от ответственности перед своей душой, своей конечностью; но вовлеченность в борьбу тем сильнее и глубже, чем основательнее раскрывается конкретность общества и ее горькая правда. В конечном счете, дело идет к тому, что на линиях диалектической соотнесенности личности и общества предметная действительность почти исчерпывает собой в практической ориентации онтологическое содержание бытия вообще. Социология вступает в магический круг почти исчерпывающего знания. Другой уровень качествования бытия и не смог бы ответить чувству «очевидности» и «ясности» в реалистической разработке программ преобразования.
Стр. 39
Живая святость жизни здесь видится уже как химера фантазии и просто глупость. Но чем дифференцированней общественность, тем предметнее и безличнее ее цели, и мало-помалу, в интенциональной отнесенности к будущему личность, невольно выманиваясь из свободы в функциональную область связей и зависимостей, и впрямь становится интегралом общественных сил, не зависимых от ее непосредственного бытия. Зато вся проблематика фактически недостающего общественности единства и любви восполняется идеями и теориями этого недостатка: экономическими учениями, социологией антагонизмов, эстетикой критического реализма и т. д. и т. п. Небывалая актуальность этих подходов к жизни, в которых впервые раскрываются могущественные силы социальной материи — всевозможные зависимости, отношения и связки целого и частей, — подводит все более и более достаточные основания под диалектическую сопредельность человечности и общественности, тем самым углубляя «царство» рациональной всеобщности, царство всеобщей эксплуатации природных и человеческих свойств.
Маркс, один из самых радикальных критиков этого «царства», подчеркивал, что «даже наука, точно так же, как и все физические и духовные свойства человека, выступает лишь в качестве носителя этой системы всеобщей полезности, и нет ничего такого, что вне этого круга общественного производства и обмена выступало бы как нечто само по себе более высокое, как правомерное само по себе» [7].
Хорошо сказано, однако же вопрос: что может быть «само по себе более высокое?» — и является камнем преткновения. Культура, которая организует свою систему ценностей не по своему исхождению, а по вынесенным вовне целям восхождения, постоянно попадает в ловушку внешней целесообразности, каковая оборачивается «царством» демократического, классового или партикулярного утилитаризма. Капитальный отход от объективной природы истины и уже завоеванная на почве христианства свободная личность капитулирует вновь перед языческими идеями «родовой природы», «естественной сущности», «натуральной гармонии» и т. п.
Так или иначе, но никакое трансцендирование человеческой души вовне себя — в предметную действительность, не спасает индивидуальную душу от чудного дара свободы, однажды и навсегда потенцированного на глубину богоподобия. Временное обретение себя в гражданском деле или творчестве, в коловращении общения или в ритмах трудовой поглощенности оборачивается временным гипнозом и потерей центральных сил души, ибо по происхождению она не есть ни родовая сущность, ни «ансамбль общественных отношений», а имманентная форма существования трансцендентного, т. е. свобода как она исповедует
Стр. 40
и исполняет себя перед лицом высшей Жизни, таинственно ее окликающей. В этом и только в этом смысле душа духовна, она не покоряется владычеству природы и общества, а наоборот, принуждает их уподобиться себе, войти в полноте облагодатствованной жизни, в Церковь Божью.
Вне этой реальности свобода личности блуждает в пределах идейных «морфем» общественности, откуда не может найти выход в нечто «само по себе высокое», ассимилируется косной и пошлой действительностью; вопреки своей революционарности фактически превращается в своеобразную мусорную корзину этой действительности. Вот почему в практической воле к рождению «нового» человека капитальное унижение личности запрограммировано уже в гипотезе.
Полицейский коммунизм и полицейский фашизм показали себя здесь как самые сильные версии гипотезы полного государственного овладения человеческой личностью. Вся она, что называется, сплошь и поперек ощупанная, инвентаризированная и документированная, становится функциональной единицей тотального полицейского абсолютизма. Различий много, но сходство одно: не поддающаяся окончательному социальному решению и полной ликвидации пневматическая почва свободы. Именно глубина христианства заставляет волевой революционаризм стать полицейским абсолютизмом, организовать тотальную службу социального контроля, объявить монополию на культуру, схватить ее содержание и структуру, вплоть до ее «молекулярного» состава — строчки текста,- клешнями идеократического примитива, чтобы создать условия беспощадного испытания и изматывания моральной и интеллектуальной совести — главного орудия труда Бога над человеком и народом — на выносливость во лжи и выживаемость в удушливой атмосфере симулированного единства.
Ничего нет странного в том, что культ «вождя» и культ государственного единства во всю эксплуатируют обывательское «тело» культуры, притом, с тем большим успехом, что по основным свойствам обыватель предстает, так сказать, вольнонаемным и даже бесплатным агентом, проводником и душепоклонником культа силы. Обыватель вездесущ, не имеет координат определенности и распределенности в социальной матрице общества и, являясь бациллоносителем ереси самой жизни, он буквально колонизирует все культурное пространство человека от революционного дельца и службиста до церковного пономаря и чинодрала. Ужас в том, что щедро поощряемый дух лояльности и преданности, ядовитые миазмы цинизма и лжи институциализируются в пышной системе порядка и ритуальности, и злоупотребления сакральными методами манипулирования облекаются даже в исповедальную практику самокритики и саморазоблачения
Стр. 41
(что отвечает сакральным представлениям обывателя о фортах самоочищения «здоровой» культуры).
В автоматизме надломленной и придушенной жизни религиозная совесть народа действительно стоит перед опасностью настоящей духовной смерти. Вместе с сужением сознания растет ее злая и насильственная энергия, ненависть дегенерирует в рессентимент: человек ненавидит себя и всех, и чем больше всех, тем больше себя; ненависть прожигает душу и становится сильнее жизни, даже сильнее инстинкта жизни, и в мстительной накипи души рождается особый тип наслаждения — религиозная исчерпанность духа. Об этой трагедии уже догадывался Достоевский, однако изощренная оснастка и выверенная система легального и подзаконного вытравливания свободы духа ему, видимо, даже не снились.
Но Господь пасет свое стадо и не оставляет ни единой своей овцы!
У нас нет возможности углубиться в этот вопрос, но нужно здесь сказать, что само по себе рождение любого аппарата насилия представляет собой настоящую феноменологию Левиафана, «царя над всеми сынами гордости» (Иов 41:26), как сказал Бог Иову на заре возникновения бунта человека против «духов тьмы» организованного господства и насилия. Аппарат тотального насилия вырастает из глубины народного строя жизни, и в этом христианская трагедия народной души.
Христианство трагично по существу антропологической глубины своей укорененности в человеке. Он навсегда Божий в глубине своего духа, но чтобы эта глубина была проницаемой для Него, Божий свет должен пройти «толщу плена» греха и зла. Надлежит сокрушить и связать внутреннего Левиафана, «сына гордости». Но плен греха есть плен бесовских сил, активно таящихся от Света и тем образующих бессознательное человека, природную «флору» скрытых хищников. И соборная правда о человеке, правда отцов Церкви утверждает, что связать надлежит восемь бесов, восемь страстей, которые определяют зло и распределяют его от малого к большому: это чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость.
Миф общественности бессознательно и делает ставку на эти силы греха, а их сознательное использование — дело техники и рационализации, коими определяются и распределяются отличительные черты полицейского фашизма и полицейского коммунизма.
Фашизм делает ставку на мифологию национальной исключительности, берет ее во взвинченной форме метафизики «фольксбунде», мессионизма и т. п., чем сразу проникает в стихию самых хищных бесов зла, сынов гордости и тщеславия. Гипостазируя дух соборности, фашизм эксплуатирует его иррациональный
Стр. 42
аспект посредством механической спайки племенных, лжесоборных моментов почвы, крови, родины и сублимированных личных притязаний.
Любая нация личностна, притом, в отличие от личности индивидуальной,- особым образом и особым подобием. Благодаря свободе индивидуального бытие человека детерминировано не прошлым, а будущим. Личность индивида есть отрицание энтелехии телесного бытия, отрицание «ставшей» в нем органической природы. Нация же глубже и богаче детерминирована своим прошлым, телесно-органическим одушевлением своей личности. Ее история, культура, природа, народ, язык и т. п. суть ингредиенты органической «свободы», и эта свобода менее свободна распоряжаться собой, она есть роковая судьба национальной личности. Быть в этой судьбе — значит быть в составе непросветленного тела, жить и умирать сразу и вместе с грехом прошлого. Значит ли это, что национальная личность обречена на рабство греху и смерти? Ни в коем случае. Нация отрицает энтелехию своего телесного бытия не своим будущим, а своим просветленным прошлым, вынося его в план неумирающей жизни. Подлинный образ и подобие национальной личности, следовательно, есть Церковь Святой Троицы, Собор святых и кающихся личностей во Христовом теле. Это единственный «организм», в котором не погашается, а выявляется индивидуальная и национальная личность, где целое и часть, душа и мир, человек и народ выровнены экзистенциально и по существу. Личность становится национальной не потому, что она чистокровна, а потому, что церковна, и наоборот, нация становится личностной не потому, что она соборно целостна, а потому что свята. Вне соборного единства в Богочеловеке национальная личность — чаще всего маска демонолатрии.
Это важно понять, ибо идея нации требует крупной личности, не всегда и не во всем когерентной крупности индивидуального лица.
Национальная личность выражается главным образом в святости и воплощается в ней полнее всего, тогда как индивидуальная личность выражается в гениальности и чаще всего ею исчерпывается.
Но святой предстоит Богу, не людям; его страшный и дивный подвиг невидим и неощутим, он не овнешнен и как бы непродуктивен. Гений же — есть самое яркое и глубокое овнешнение персонифицированной общезначимости. И вот эта различенность типов личностей и ох черт и становится фетишизированным предметом подмен о спекуляций.
Этим может заниматься по глубоким основаниям дела именно бездарная и несвободная личность, то есть индивидуальность тщеславная и остросамолюбивая, но творчески непродуктивная, нереализованная.
Стр. 43
В мире нет других личностных начал, кроме национальной личности, которые бы давали столь легкую и, по сути, даровую возможность озлобленной, унылой, тщеславной и гордой бездарности сублимировать свою неполноценность в осанне национализму. Разом и всецело бессознательные очаги воспаленной претенциозности идентифицируются с тотемом рода и его священными фондами «искупляются» и «спасаются» от суда совести и онтологического чувства вины.
Таким образом, в пределах мифа общественности всякая метафизика «фольксбунде» становится последней откупной греха, настоящей флорой самодовольной души, подменяющей лик соборности механической организацией самодержавия племенной посредственности. Эта гуртовая и, по существу, рабская всеобщность, жаждущая оптового исповедания национальных святынь, слепо рвется к алтарю, минуя одно из самых таинственных начал души как таковой — гефсиманской ее трагедии. Вбирая в себя самый глубокий момент всей личности, глубже которого уже ничего нет (ибо именно здесь свобода идет к жертвенному послушанию), эта единственная бытийно-личная трагедия не может быть пережита ни национально, ни народно, ни партийно, а тем более — гуртом. Здесь лично достигнутая победа души безмерна и абсолютна, а потому она пневматична и не знает исключения других, не желает искупления «за счет» будущего или «в зачет» прошлого, а есть спасение «всей твари»; ибо в эсхатологическом плане бытия личное спасение совпадает со спасением всех, и молитвой одного святого живет у Бога весь народ.
Вне такого понимания национальной природы личности идеей нации можно «спасаться» только от разложения и разврата индивидуальной души. Но это — мнимое спасение, лишь наркотизирующее неполноценность и усугубляющее ее.
Германский фашизм, правда, не поднимался до идеи нации выше уровня грязной и тупой черни, которую он околпачил бредовой доктриной «рейха» и истеричным расизмом, но немецкая интеллигенция была глубоко и даже глубокомысленно заражена мечтами о первозданной стихии варварства, способной омолодить культуру и т. п.
Фашизм потерпел сокрушительное поражение, прежде всего натолкнувшись на цепь вселенского братства людей, сумевших жертвенным чувством общей правды распознать за нацистской маской Зверя.
В отличие от фашизма, революционный коммунизм делает ставку на пролетарский мессионизм. Разумеется, этот социальный миф открыт не для одного исторического сценария, но все они разыгрываются в категориях экономизма, ибо справедливо (хотя и неглубоко) полагается, что у рабочего класса ничего нет, кроме промышленно-хозяйственной способности производительного труда, скованного цепями частной собственности и эксплуатации.
Стр. 44
Экономизмом исчерпывается культура пролетариата, его история, философия и психология, и даже грядущее его торжество рисуется в координатах труда «без всякого вознаграждения», затоваренного изобилием бытия и непрестанно ликующего в этом изобилии коммунара. Ибо «бытие определяет сознание». На удивление, эти редкие страницы наследия классиков коммунизма, даже действительно выдающихся, просто стыдно читать, и это показывает, что правда коммунизма добывалась не из утвердительных, а из радикально отрицательных установок на жизнь и ее строительные возможности. Ставка делалась по преимуществу на «малые» грехи рабочего человека — чревоугодие, чувственность и прочие «мелочи» гедонизма. Коммунизм является заложником грехов и зла капитализма и в форме революционного социологизма представляет собой своего рода ортопедическую приставку к обывательской мечте. Вот почему даже крупные его фигуры в личном плане, за ничтожным исключением, обнаруживают исторически позорную картину мещанской пустоты души, обрамленной идейными примитивами лозунга и устава.
Достойно внимания то обстоятельство, что эта инверсия мифа общественности победила не там, где был сильный рабочий класс, а там, где он был слабый — в России. Не входя во все моменты этой замечательной особенности, скажем только, что не Европа повенчала Россию с идеей коммунизма, хотя именно Европа, выскользнув сама из его цепких когтей, оставила Россию надолго один на один с этим все более наглеющим женихом и с беспрецедентным любопытством наблюдала за этой невиданной в мире свадьбой. Важно понять, что исповедуя и исполняя идею коммунизма, Россия взяла на себя и сполна собой рассчиталась за искушения всей Европы.
Другое дело, что побудительным мотивом выбора был острый комплекс неполноценности, ставший за два послепетровских века навязчивой идеей русской интеллигенции. Идея коммунизма сулила русскому непросвещенному максимализму прежде всего «ясную» и «очевидную» для ребяческого русского рационализма идентификацию с культурной Европой, притом в кратчайшие сроки. Совершенно верно звучат слова о том, что Россия «выстрадала марксизм», ибо нужно было огромными трудами и муками привить его особому древу жизни: форсированно доказать зрелость капитализма в России, методами статистических и демографических фикций и полуфикций убедить в разложении традиционной аграрной культуры и т. п., а главное, выпестовать и сформировать пролетарское революционное самосознание, которое почему-то не имманентно ему, а вносится извне. Пролетариат, воспринимая отвлеченную и возвышенную химеру о себе, на порядок глупеет по сравнению с богатством собственной жизни и на два порядка озлобляется по сравнению с обычным самочувствием и таким образом действительно формируется как исторически новая ударная сила.
Стр. 45
Но об этом можно было бы и не говорить, это для мало-мальски настоящего историка — периферийные социологические пустяки фундаментальных процессов русской жизни, пустяки, которые только в результате парамнезии осатаневшего коммунизма были поставлены в центр событий истории.
Коммунизм имел дело не столько с русским пролетариатом, сколько с народом — категорией, которая в Европе к этому времени элиминировалась в демократии и почти выпала из употребления в семантику фольклора. (Кажется, Макс Вебер подметил, что в формуле Лютера «Каждый сам себе священник» — вся суть демократии.)
Народы России после реформы 1861 года переживали настоящий ренессанс свободы: бурный рост самосознания, подъем творчества, чувство просторов и света… Свобода 1861 года охватила собой весь объем огромной жизни, но в неоформленности ее социального строя имела мало навыка и шанса рационального и справедливого воплощения… И уходила в воздух, становилась, так сказать, паром пустого энтузиазма, пьяного застолья, словесного изобилия, наконец, усталости, уныния и бесовской озлобленности. Надо мужественно увидеть вину русской исторической церкви, тяжело спавшей в литургическом автоматизме календарно-обрядового круга, что она не умела и не желала эту разбуженную к жизни энергию народа сделать ценностью воинствующей и неповрежденной веры и культурного созидания. Но именно потому, что эта революционная энергия не была оприходована и даже осуждена, она была ловко перехвачена и направлена в политику смертоносного риска. Прихотливые события истории изогнули вектор хищных сил таким образом, что он пошел не по тому кругу, по которому направлялась его социальная телеология и сектантская работа. Не политическая доктрина, а низовая стихийная потребность вдохновляющей иллюзии, тяга уставшего народа, готового идти на поводу всякой уверенной в себе силы,- вот что обрекло Россию на брак с коммунистической идеей. В ее хилиастический горизонт низовая народная свобода канализировала свою мечту о совпадении жизни с правдой в идею общего быта, общего труда, общего распределения, словом, в метафизику «общего», традиционно христианскую, но хилиастически взвинченную угрозами растущего буржуазного индивидуализма. Можно даже сказать, что коммунизм был известной рационализацией эсхатологического наклона национальной души, бытовым противовесом которого всегда были авось» да «небось».
Русская буржуазия стала быстро развязывать тугой узел жизненных проблем, но натолкнулась на острую политическую брезгливость интеллигенции, ее чисто русскую отвлеченно-моралистическую нетерпимость.
Стр. 46
Марксизм был находкой всей русской душевной усталости, религиозной безответственности и интеллектуальной упрощенности. (Не случайно подавляющее большинство интеллигенции мгновенно «въехало» в него, и даже когда стали отрекаться, не все сумели до конца «отряхнуться»).
Большевизм взял Россию не только хитростью и коварством, но «ясностью» и «очевидностью» плана, твердой «народной» осанкой слова и дела, а главное, сакральной и жертвенной преданностью борьбе. По сравнению с фашизмом большевизм несравненно более народен как тип революционаризма, и потому он так плотно, ладно вошел в народ, облекся «народностью», так ловко «застегнул» его мандатами сатанинскую пустоту своей воли к власти. Следуя за этой волей и ее обманчивыми зовами, рабочий человек шел к себе самому, к ереси своей собственной жизни, и потому мы можем утверждать, что Россия взяла на себя весь груз исторической проверки мифа коммунизма и прошла все стадии жуткого эксперимента с той безоглядностью веры, упрямства и жертвенности, которые стояли в зависимости от ее почти детской доверчивости к змию отвлеченности, от интеллектуальной неискушенности и других свойств, грубо политизированных и вскоре обернувшихся «отвлеченной» озлобленностью как таковой.
Еще мало изучен тот факт, что максимализация мирового коммунизма на русской почве, грозившая общеевропейским пожаром, разбудила творческое чувство страхования, а затем и религиозную совесть западных конфессий (прежде всего католицизма) и весь корпус здоровых сил к фактическому обеспечению гарантий основных христианских ценностей жизни трудящегося человека Европы и Америки. Глубоко вошедшая в демократический строй жизни факультативность западных культур и ею обусловленные начала скептицизма, критической осмотрительности и другие опосредования, пригасили и нейтрализовали оголтелый и фанатичный революционаризм альтернативами других программ, духом социальных исканий и изобретений.
Мы это говорим не для того, чтобы в осознании страшных итогов русского эксперимента, поставившего цветущий культурный организм на край нижней бездны и вырождения, острее увидеть настоящую цену, которую вся европейская культура принесла на алтарь культа коммунизма. Европа это, слава Богу, понимает, во всяком случае, не может не понимать по общим христианским основаниям культуры — ибо христианство есть Правда мировой судьбы, ее либо принимают, либо отрицают — и поняв, не может не протянуть руки помощи там, где религиозный
Стр. 47
гений Запада реализовал себя с наибольшей творческой силой — в стратегии и технике организации культуры.
Мы это говорим, имея ввиду российскую интеллигенцию, которая до сих пор не ощущает глубину трагедии именно потому, что не имеет никакой внутренней связи с религиозной судьбой культуры и даже — с религиозной судьбой науки (в круге которой она чувствует себя «специалистом»).
Только живая христианская вера дает человеку власть и силу дистанцироваться от себя, мира и Бога без потери себя, мира и Бога. Вне этого чуда христоцентрического гнозиса, хранимого Церковью Святой Троицы, в силу вступает основной парадокс герменевтики, гласящий: кто не видит дальнее, тот переоценивает ближнее.
Кто не видит всю глубину христианской трагедии России, тот вновь попадает в плен религиозной недостаточности зрения, в ересь исторического сознания. Ум раздваивается и в зависимости от онтологии греха двоится, то недооценивая прошлое, то переоценивая будущее.
Что и говорить, в остром чувстве обиды за униженные и попранные национальные святыни истосковавшаяся душа имеет много соблазнов, чтобы, усыпя научную совесть, впасть в хмельное и тщеславное идолопоклонство прошлому. И тогда в консервативном круге страстей новый партийный фанатизм, кровожадный до суда и расправы, культивирует ту темную и злую духовность, которая во внешней своей оцерковленности изъявляется самым натуральным кощунством и демонией. И вот уже пляшут новые бесы.
Камнем преткновения этого фанатизма становится «проблема еврея», и ею почти без остатка поглощается вся творческая работа данной души. Не имея сил войти в глубину метафизики наиболее трагического народа истории, эта душа с маниакальной вовлеченностью фиксирует и выслеживает лишь проявления коадаптационных свойств народа, и, таким образом, проблема почти насквозь психологизируется и предстает в качестве исключительной компетенции психоанализа. «Религиозность» подобной души выдает себя, что называется, с головой именно своей маниакальностью.
Моральная совесть успокаивается (даже извиняясь за клинические уклоны) на том, что развитие религии и восстановление духовного здоровья народа может быть обеспечено решительным подчинением настоящего традициям былого, родимым истокам, «почвенности» культурной политики. В подобных интенциях христианство понимается только как закваска «святого быта», как корень цветущей кроны жизни и т. п., и вот эти реминисценции романтического исповедания язычества жестко и напряженно оцерковляются под формой соборности.
Стр. 48
Претенциозная и притом, увы, вульгарная платоническая гноза! И ничего нет странного в том, что православие такой гнозы быстро скисает в катехизис морализма и даже — в густой настой ханжеского пиетизма. Морализм становится едва ли не единственной творческой силой виртуальной целостности данного культурного сознания, его политики, педагогики, общения, любви и т. п. В императивах морализма и церковная жизнь трактуется как некое домоводство, «святая методика» домостроения национальной жизни, чуть ли не «племенной затвор». Характерно, что даже эстетика, взятая под контроль этого морализма, преломляется в некий фольклорно-православный метод, приторно сентиментальный даже в подходе к природе. Повторяется все та же безответственность в отношении к главному — своей душе, которая в натужной соборности хочет не раскаиваться, а судить и клеймить.
Другая установка сознания интеллигенции почти всецело отнесена к будущему и творчески развернута именно к нему. Но в свете беспощадной дискредитации всякого утопизма и футуризма эта установка питается и мало-мальски бодрится достижениями европейской культуры и мечтает о них. Ничего не меняется, происходит лишь своеобразное вытрезвление социалистических идеалов в европейском социальном эвдемонизме (либерализме, технико-экономическом прогрессе, правах человека и т. п.). Усиливается только скептицизм — еще бы ему не быть к исходу и к итогам ХХ века, навалившего на искомую невинность природного человека нигде в природе не встречаемые горы и горы абсурда в кровавых дел! Так что скептицизм этот тяжеловат и бескрыл, в нем ничего не осталось от сурового и мстительного ницшеанского скептицизма, восставшего против власти всех авторитетов, «галиматьи культов», святынь буржуазного домоводства за беспредпосылочную истину, свободную и мужественную даже в отчаянии абсолютного одиночества. Нет, новый скептицизм не хочет никаких бунтов, а хочет покоя, ну еще — гарантии покоя и хорошо бы немного комфорта. Он устал, и довольно сильно, так что стал философски сонливым и равнодушным. Онтологически малообеспеченный вообще и, по определению, паразитарный, скептицизм проявляет познавательную прыть только в элементе критики чего-то «другого» и творческие продуктивен лишь в методологии, в наведении мостов между бытием и сознанием, а в онтологии, если не сходит со своего главного «коня» — сомнения, то невольно теряется и вязнет в зыбучих песках плюрализма. Плюрализм — это своего рода трансцендентальное единство апперцепции абсолютного скепсиса, исповедание и исполнение его предела. Но таким пределом трудно духовно окормляться, да и неполезно. Скептицизм это знает и потому нервничает и боится всего религиозного, вообще не терпит ничего, что ограничивает свободу,
Стр. 49
мешает ей быть, особенно быть в постулатах покоя, возможности выбора, вольного самоизживания, словом, в модусе всего, что служит телу — этому эгоистическому бытию гедонизма. Если свобода желает стать каким-нибудь порядком, то есть несколько потесниться, скептицизм, верный исходным установкам своей истинности, готов уступить, но только до пределов порядка в модусе порядочности. Этим исчерпывается и его этика, которая за диктаторские поползновения ее долженствования вообще берется под подозрение. Но где скептицизм любого сорта чувствует себя хорошо — так это в эстетике: здесь свобода подается в самом милом виде — в форме необязательного представления, но как бы реального овнешнения, да еще под соусом гедонизма. Но и в эстетике онтологическая ущербность скептицизма ограничивает его творческую силу пассивной стороной эстетической деятельности — работоспособностью вкуса, оценки и критики. Этой деятельностью «суждения вкуса» более всего и занята скептическая душа, ибо в позывах самостоятельного творческого созидания она не идет дальше эстетики произвольных актов». Ведь раз человек радикально не способен познавать и выражать внешнюю и внутреннюю природу бытия, предметом творчества должно, строго говоря, стать не бытие как таковое, а модус его становления: возникновение и уничтожение как процесс сам по себе. Проблемой становится не «вечное, а временное»: бытие в элементе его исчезновения и появления. Элиминируется, таким образом, самое чудо сознания, так сказать, самое точка зрения, способность человека стоять «над» бытием, возвышаться; и тогда «слишком человеческое» становится моментом радикальной временности, точнее, этот момент и есть человек, качествующий как наличное бытие, бытие «на лицо».
Так преодолена «последняя» метафизика, а вместе с ней -и творчество. Ведь оно ничего нового не вносит в мир, остающийся радикально плюралистичным. Творчество перестает быть мимесисом, созерцающим бытие под формой его возможного преобразования. Можно творить, а можно не творить — ничего от этого не меняется, и поскольку это так, искусство предстает как абсолютно открытая наличность актов, свободная их комбинаторика. Так, структура творчества и по форме, и по существу совпадает со структурой интерпретации, и нет больше разницы между интуицией и дискурсией, Моцартом и Сальери, ибо то, что воссоздано, может быть измерено и объяснено, а все, что объяснено, может быть воссоздано. Все становится делом техники, задачей коллажа, и потому в пресыщенном мире скепсиса искусство начинает жить как инструмент «встряски», щекотки нервов уставшего и уже не столько потерявшего надежду, сколько изверившегося человека. Отсюда страшная озабоченность формой, точнее — эффектами вкусовых рецепций, новизной, во что бы то ни стало –
Стр. 50
новизной; отсюда и уклоны художественных «текстов» в сторону эстетики «шока», «откровений» эротики, «черного юмора», всякого рода эпатажа, ужаса и т. п. Только принципиальная сублимированность искусства мешает увидеть в этой возгонке страстей обнаженный коготь сатаны…
Зато легко увидеть решительное сближение скептика с обывателем. Ведь императив обывателя вполне прост: для меня — свобода, для других — порядок. Но это, как говорится, совершенно конгениально скептическому принципу «порядочности», его двоящейся неопределенности. Скептицизм везде находит лишь долю истины, потому он обрекается на эклектизм и факультативную необязательность мысли, но с этим связана его цепкая житейская воля и здравый смысл. Фактически в своей коренной установленности онтологии нижней бездны грехов, провоцирующих человеческую волю на гарантированную полноту гедонической реальности («чувство счастья»), скептицизм тесно примыкает к обывательскому «телу» культуры, а в критической работе суждения вкуса максимально дистанцируется от него и отчуждает его в качестве основного объекта своей творческой работы.
Эта антиномия и парализует религиозную жизнь души. Она не просто неблагополучна, но опасно устанавливается в Боге то в качестве сладострастной теологической гнозы, то в качестве экзотической религиозной образованщины, то как романтическая ирония, то как откровенный атеизм, блефующий интересами «здорового» практицизма.
Каверза наших дней состоит в том, что в своей близости к обывателю душа скептика намагничивается от обывательского «тела» культуры, индиферентного к религии (это определяющий признак данного типа жизни независимо от того, легко или трудно эта жизнь дается), и в неопределенности своего религиозного выбора невольно провоцирует острый рецидив традиционно русского комплекса неполноценности.
Но если этот комплекс ранее был симптомом напряженной внутренней борьбы за самоопределение, то теперь он становится бесстыдным выражением настоящего духовного оскудения. Да это уже и не комплекс, а как бы архетип, элемент коллективной психики интеллигента, антиципацией которого он переживает, оценивает, судит, словом, структурирует плюральный мир. «А куда деваться, вы гляньте, что творится?!» — таков основной «дискурс» этого сознания, коль скоро близлежащий «контекст» и впрямь не скупо и не слабо развернут… Увы, разоблачительный, пошлый, нехороший «дискурс». Ведь если и есть какой-нибудь репрезентативный признак различенности обывателя и интеллигента, так он и есть бедность. Ни образование, ни вкус, которые могут быть и у обывателя, но именно — бедность, каковая в народе — не порок, а в интеллигенции — принципиальная добродетель. Мы здесь
Стр. 51
не говорим о социальных аспектах бедности, но только об этических. В этом смысле бедность есть проблема плебея, люмпена, черни, но отнюдь не интеллигента. Она должна быть делом экономиста, политика, священника, но она не может быть словом интеллигента, логосом его сознания. Об этом знали уже древние и задолго до Христа инкорпорировали добродетель бедности и в автаркию киников, и в апатию стоиков, и в киринейскую адиафорию, н в знаменитую софросюну платоников… Но Царь царей приходит в мир в нищем рубище и говорит: «Какая польза тебе, что ты приобретешь весь мир, а душу потеряешь…» — и эти слова навсегда становятся критерием духовного рождения личности. Вне этого критерия интеллигент теряет опору, чтобы дистанцироваться от обывателя принципиально, то есть и для себя, и для обывателя, и лишается способности суждения вкуса — своего основного орудия труда над обывательским «телом» культуры, а также способности юмора — главного инструмента, которым свобода развоплощает необходимость и очищается от собственных преткновений.
Осознаем ли, что главным итогом трагедии русской культуры, обнажившей сейчас свои раны, стала не бедность, а опустившаяся жизнь и опустившийся человек?
Тугой узел полуанонимных и полууголовных связей и зависимостей общества получил в полицейском государстве, в точном соответствии с его концепцией личности как «ансамбля общественных отношений», свой закономерный продукт — полустертого, полууголовного субъекта, двоящегося в зависимости от степени зрелости» на клан циничных дельцов партократии и придавленную к нижней черте выживания «трудящуюся массу». Скажем прямо: человек продолжал оставаться личностью только на «процентах» от великого наследия православной русской культуры и в меру не ложной и не симулированной к ней приверженности. Замордованная социология нашего общества прошла мимо эмпирически как день ясного факта, что народная совесть осталась жить лишь в глухих провинциях огромной страны. Невостребованные молохом пятилеток, эти забытые углы России в невольной бедности и страхе тихо и как могли изживали жизнь, прилепившись вместе с батюшкой к еще не до конца потемневшей иконе, чтобы внимать едва уже слышимому голосу Господа: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20).
В остальном, за известным вычетом, можно сказать: никогда так низко не опускался и не падал русский человек. Мы имеем дело с явлением почти всенародным. Зачем иллюзии? Жизнь опустилась на нижнюю ступень по существу, и осмос пьяного и тупого разложения, половой неразборчивости, свального бесстыдства, матерного восприятии мира (даже того же звездного неба и элементарного чувства долга) просачивается и захватывает уже молодняк и даже совсем еще школярское детство…
Стр. 52
Равнодушие это не состояние души, а модус зрения. Но есть религиозно допустимые пределы равнодушия. Преступно видеть, но «не замечать», но еще преступнее в плюральной установке на жизнь тщеславно и ревниво оберегать знамя пустой и формальной свободы. Мы не обеспечили «кантовскую» свободу жизненными ресурсами, и это необходимо осознать как «дважды два — четыре».
Свобода — дар опасный, можно сказать, обжигающий, зрелый не когда рискует быть самообеспеченным, но когда может им стать в ответственности и ответе не только за себя, свою семью, но за судьбу «малых сил», за весь горизонт культуры. Между свободой и порядком европейская культура ввела весьма сложные конструкции партикуляризованных форм жизни. Здесь произошла главная религиозная бифуркация благодатных фондов бытия в благоразумное устройство — такова неимоверно дорогая цена, которой оплачена ответственная свобода и свободная ответственность индивидуализированной культуры. Вне такой понимающей себя свободы она оборачивается маятой и морокой скуки, «вакуумом» праздномотивированной души, потенцирующей криминальные «фонды» свободы. В свое время Ф. М. Достоевский, всматриваясь в этот праздный зазор безбожной души, с замирающим сердцем отмечал: «Началось обожание даровой наживы, наслаждение без труда; всякий обман, всякое злодейство совершается хладнокровно; убивают, чтобы вынуть хоть рубль из кармана» [8].
Можно сказать, не обинуясь: полицейский коммунизм стал своего рода гигантским социальным реактором всеобщей взаимной нечестности и криминальной возгонки иждивения «недоделанного пробного существа» (Достоевский). Этому существу уже нечем спасаться от собственной опустелости, кроме как хмельным, непересыпным угаром, ежедневной гоньбой опухшей сарыни, «распинаемой» на кресте похмельной маяты. Пьяный чад стал нашей повседневностью, свился в устойчивую норму, вполз в семью, в труд и вместе с демагогией о серпе и молоте перетер в порошок русского рабочего, артельного умельца, мастака и мастёру. В пространстве цепной пьянки и скуки экзистенциальный вопрос «быть или не быть» одуревший от беспризорной свободы молодняк решает не иначе как: «быть, чтобы не быть». И эта старая как мир и опасная правда становится в наше «коммуникативное» время репрезентативной повседневностью наркотического и эротического «типа» свободы. Но ведь в расход идет уже не тело, не душа, а самое плазма жизни. И бывает так, что этой новой «экзистенции» на вопрос «Зачем ты так поступила?» нечего сказать… И в истории криминального языка убийств звучит небывало наивное и невинное: «Не знаю, просто так…» Убивают
Стр. 53
ведь уже фактически не за рубль, а — просто так. Для так называемого русского максимализма это — конец.
Мы не станем на точку зрения морализма, она не наша. Но мы скажем со всей определенностью, что захватывающий дыхание процесс разложения железобетонных массивов полицейского абсолютизма, освежая самый воздух жизни, движется бурно и неудержимо в никуда… в свободу, гласно нашпигованную потребительскими и промтоварными горизонтами. В этом стремительном движении жизни нашему молодняку не за что зацепиться, духовно опереться, нечем идейно укрепиться, и незанятые центральные силы души сносятся в бурном потоке к культу промтоварных и эротических «святынь». И надо признать, что наша массовая культура в своей динамичной обездушенности и опустошенности отражает обездушенность и опустошенность духовной элиты общества, ее фундаментальное непонимание религиозной судьбы культуры.
* * *
Напоследок (впрочем, можно ли здесь увидеть след конца!) нам хотелось бы сказать два слова о религиозной судьбе самого этого непонимания. Оно ведь скептично не только по усталости, но по существу убеждения и держит оборону именно своей «верой» — плюрализмом. И вот мы уже слышим: раз церковь получила ныне все права гражданского лица, пусть она я занимается «всем эти»…
Не беремся судить, какой путь изберет русская православная церковь в новой для себя атмосфере жизни, и лишь молим Бога, чтобы Он осенил ее горением веры, мудростью и единственно истинной революционностью — христианской жертвенной любовью. Дерзнем сказать, что это нужно нашей церкви как никакой другой на белом свете.
Однако нельзя не видеть, что в пережитой трагедии есть немалые приобретения и, может быть,— промыслительные дары именно православной церкви.
Скажем осторожно: страшная и бессмысленная русская трагедия, кажется, мало-помалу находит нечаянное искупление прежде всего в том, что русское страдание, кровь и поругание, изнесенные у подножия животворящего Креста, пресуществились замечательным богатством религиозного слова и мысли, собранных и хранимых в житницах свободной п несчастной русской диаспоры. И по мере того, как узнаются тупики всей современной технической цивилизации и в апокалиптических ритмах истории отчетливее слышатся стенания европейского интеллектуализма, становится ясно, что искупительный этот дар Креста принесен от лица России всему миру. Ну и, разумеется, — на алтарь православного народа. Открывается — и вполне реально — возможность
Стр. 54
правильно распорядиться этим даром для исповедания и исполнения новой для нас и, по существу, первой в нашей истории свободы в форме ее самодетерминации: не столько свободы как возможности выбора (сопьемся), не столько — как порядка (скрутимся в фашизм) и не столько — как свободы личных творческих актов (утонем в половодье эротики), а как школы христианского пути, православного понимания жизни в ее факультативной свободе и софийном строе. Здесь русская интеллигенция, которая давно в залоге у Бога и в долгу перед Ним, может, мы верим, оправдаться и оправдать безумие исторического соблазна и риска.
Не впадаем ли мы здесь в преувеличение и эмфазу, продиктованные только нуждой в мажорном завершении весьма невеселых размышлений. Думаем, что нет, во всяком случае, мы здесь сознательно осмотрительны и для того, чтобы подтвердить это, вернемся к «cogito ergo sum» и еще раз обратим внимание на главный парадокс науки. Эта форма познания построяется на небывалой воле к предметности и несет на себе своеобразный крест испытания субъекта на «абсолютную объективности». Ведь в акте познания субъект обязан уподобиться предмету, совпасть с ним, самоустраниться для полного воскрешения всей наличности предмета. В этом смысле наука логосна и даже в своей обезбоженной установленности в мире отнесена к недрам разумного строя бытия как Божьего творения. Но эта соборная правда науки амбивалентна: чтобы абсолютно отдать себя предмету, нужно радикально дистанцироваться от себя в порядке фактического испытания дара свободы, но в постулате уподобления предмету знания (не общения и любви!) свобода роковым образом качествует как «узнаваемость», непрерывная объектная упорядоченность, континуальность… словом, как познаваемая необходимость. И в каждом акте знания субъект «освобождается» от непостижимости бытия как ингредиента соборной мысли, гасит дар восприятия самой таинственной Ипостаси троичной реальности — животворящей стихии Свободного Духа.
Эта роковая бифуркация свободы в элементе рационального познания — первородный грех ума, но этот грех возводится в ранг метода (позитивизм) и даже — в культ науки (сциентизм). Рационализм есть именно риск познания, притом последовательно проведенной на исторической почве христианской культуры.
Поистине дьявольское коварство проблемы заключается в том, что актуализация cogitatio есть во всех отношениях тот момент самоопределения «я», без которого бытие не может быть постигнуто как «очевидная» конкретность. Однако вылущенное из-под опеки традиций и авторитетов в модус непосредственного отношения, сознание в самый богатый момент автономии теряет почву и хоронит себя в ближайшем, «непосредственно» прилежащем
Стр. 55
бытии, каковым является тело. Очевидность и непосредственность моего полного разрыва с прошлым и внешним и полного слияния с настоящим и внутренним всецело становится продуктом положения моего тела во времени и пространстве. В метафизическом горизонте, таким образом, я встречаюсь не с Богом, а с самим собой, ибо отгороженная от мира индивидуальность всецело становится добычей собственной телесности, так что переживание аффекта «очевидности» и «ясности» выступает лишь моментом освобождения от власти другого, но не моментом свободного мышления вообще.
Трагические и одновременно комические итоги!
Ценой предельного отсечения мысли от тела гений Декарта поставил человека в такое отношение к природе, когда открылась виртуальная возможность ее полного подчинения рациональности. Огромные усилия научной мысли были направлены на истребление всякой промежуточной инстанции между физико-химическими реакциями мозга и феноменологией мышления. Казалось, что в чистой «ноэме» Гуссерля и в исчислениях «логического рая» Витгенштейна были почти осуществлены самые светлые сновидения гносеологии и миру почти дана гарантия управляемости всем на свете…— и вдруг отпущенное в риск свободы самосознание человека натыкается на преграду, показывающую, что в самой телесности возникают динамические модальности, ускользающие принципиально от любой формализации, от самых гибких фрейм и алгоритмов. Более того, эта телесная форма, как выясняется, выступает даже анонимной силой «феноменального мира» психики, ее целостным «контекстом», говоря словами Мерло-Понти. И человек оказывается всего-навсего интегралом телесных функций. Таким образом, в антиномии бихевиоризма-ментализма вновь заговорила гипотеза, что без преобразований физиологии не может быть преобразована и феноменология. Хотя контекст ценности мира, переведенный в текст, поддается квантификации, тупик, тем не менее, все более ощутим. Ибо нет никакого доступа к тому первичному «тексту», который уже не имеет контекста, а следовательно, лишает нас возможности «распознавания» без просветления самого познающего. Но это требует радикально других «программ» жизни, и поскольку эти программы лишь встроены в плюральный ряд культурных факультативов, они не действуют, и антиномия тела и духа (где телу как «контексту» мысли, разумеется, принадлежит приоритет воссоздания целого) делает свое старое дело.
В данном сборнике, затрагивающем методологические проблемы потребления, отмеченные обстоятельства приобретают, можно сказать, решающее для понимания существа дела значение.
Постулированный Платоном дуализм разумной и животной природы, получивший у Аристотеля определение человека как
Стр. 56
«разумного животного», доведенный западным христианством почти до манихейской крайности, закрепленный Декартом в качестве постулата истины бытия — этот дуализм загнан «в угол» практически всем ходом развития цивилизации.
Вся эта цивилизация конструируется в терминах человеческой телесности и ее релевантность просто «встроена» в жизнедеятельность индивида и является «зеркалом» его универсальных ориентаций. В своем высшем проявлении, в науке, эта ориентация, доходя до изоморфизма структуры реальности со структурой числа (чем и исчерпывается принцип квантовой механики и теории относительности в деле построения физической картины мира) трактует мир как сплошную «физику» вселенной, как «Вещь».
Питательная среда этой картины мира образуется самой интенциональностью рацио, его направленностью на бытие только как на континуум знания. В этот модусе реальность становится предметом представления и в полноте высшего осуществления преобразуется в методологизм, который дробит, крошит, «свежует» бытие на предметные сферы знания, закрепляющие за отдельными науками мнимо-онтологический статус объективного ведения. Бытие уже исчезло, растаяло, жизнь умерла, а ею только начинают манипулировать как живым содержанием истины. Пока действует методология рационализма, опознающая целое как комбинаторику частей, сущее «отвечает» на запрос этой методологии ценой своей обедненной глубины и полноты. И цельность такого знания не идет дальше постулатов гуманизма, этой самой красивой ереси человеческого понимания мира, в которой все движется «телесностью» и все, увы, завершается ее расширенным воспроизводством. В рамках этого знания даже нравственность как наиболее глубокий корень всеединства невольно поднимается на поверхность своей нищей питательной среды и оформляется императивом Канта. Так тому и быть: поверхностному пониманию зла — поверхностная форма борьбы с ним.
Ложь рационализма, независимо от градуса ее оптимизма пробивающая самые мощные плотины на путях своей культурной объективации, в том и состоит, что абсолютное бытие мыслится, а не есть, иными словами, понимается только как «сущность», как идеальность или потенциальность, а не как сущая реальность, конкретная полнота и всеединство.
Как говорится: молитва дается молящемуся, и поскольку абсолютно сущее есть бесконечная мощь, оно всегда и всему ответствует, всегда и всему «подает» по запросу и по мольбе, в том числе по мольбе рационализма, прихотливо выраженной в правилах редукции и верификации.
В своей универсальной сверхпластичности и полифоничности бытие потому и откликается на запрос о себе, потому и преображается по форме этого запроса, что оно есть Всеединство. В этом
Стр. 57
смысле гипостазированная активность сознания и пассивность материи характеризует тот момент культурной целостности, в котором онтологизм низведен до степени протяженности ради инструментальной деятельности и технической экспансии. Итогом этой деятельности является исполинский прогресс техники, а ее шедевром — атомная энергия, сила, добытая у природы в совершенном согласии с характером добытчика. Вместе с этой энергией он возвел себя как «вещь в себе» в исполинскую степень и — с тем остался! А куда деваться: такова виртуальная форма культуры, выбравшей рационализм ведущим принципом целостности.
Буржуазность этого принципа коррелятивна онтологическому изъяну всех антропоцентрических культур, и потому эта буржуазность, так сказать, просекает любые социальные формы, как бы революционно они себя ни настраивали, и обретает почти космический масштаб, уходящий в ослепительные дали технической романтики вплоть до рациональной организации ноосферы. Вот почему вместе с фантастическим научно-техническим прогрессом и параллельно ему фантастически растет объем и содержание зла…
..Срывы «срединной» культуры в цивилизацию потребления уже систематически наблюдались в ХIХ веке. Хотя они не подвергались специальным исследованиям, можно усмотреть явную связь их с ритмами жизни мифа общественности, которым они всегда приходят на смену как их «выдох». Так, Герцен, самый выдающийся хроникер и обличитель европейского мещанства, сразу после 1848 года отмечал резкий поворот всей жизни «в пользу тишины и кристаллизации» густой потребительской морали.
Однако настоящий разгул потребительской формы жизни наступил в ХХ веке, когда техническая цивилизация, завладев всеми природными материалами, стала, как из Везувия, извергать потоки цивилизованной дряни. И хотя уже Гоголь с тревогой замечал, «как наступает на нас и давит вся дробь прихотей и наслаждений», но ХХ век обнаружил масштаб этого наступления «потребительского Содома», превышающий всякое воображение. Не станем об этом говорить, лишь напомним, что аппетиты потребительской культуры привели к тому, что одно поколение сегодня проглатывает столько ресурсов, сколько их не тратили миллионы поколений. 90 процентов существующих ныне наименований товаров просто были неизвестны даже в 1910 году. Но чтобы поддерживать масштабы и темпы потребления, необходимо тратить энергию в 3-4 раза большую, чем за всю историю человечества. Антиномия экономики и экологии сегодня такова, что та же рациональная мысль не видит возможности предотвратить грядущее самоубийство человечества. «Все существующие на сегодняшний день серьезные исследования предсказывают, что
Стр. 58
если нынешний ход развития человечества не будет радикально изменен, то глобальный крах во всех человеческих делах неминуем» [9].
Отнюдь не метафорически можно сказать, что в горизонте бытия как представления уже сверкают молнии светопреставления.
Потребительская цивилизация вдруг физически почувствовала, что схвачена природными порядками бытия и поставлена перед альтернативой: быть или не быть. Быть — значит, как минимум понять и измениться, ибо в риске человеческой свободы аварийного выхода уже нет. Ставка на имманентную мудрость природы и потенции платоновского божества исчерпана: разрушается софийность природы, творческое разнообразие божьего замысла о ней, ее красота и сложность. Сигналы смертоносной опасности идут со всех сторон и уже вошли в повседневность человека. Экология поставила «в угол» гуманитарную проблематику («Уважаемые взрослые! Внимательно следите за тем, чтобы дети не снимали предохранительных повязок с лица в часы производственных выбросов!») и, кажется, «в углу» стоит уже сам человек: так велики грехи и так малы средства борьбы с ними, что уныние и скепсис одолевают повсеместно. Дух дегенерации поистине с первобытной энергией носится над потребительской культурой. Иногда кажется, что люди уже смирились с сознанием начавшегося мирового распада — так «запросто» гуляет, носится и шалеет по всему пространству культуры пошлость, словно выворотная оргийность, истошная и тупая глоссолалия. Культура подточена и изъедена грехами и злом до предела, но демоны мира не дают человеку видеть это «очевидно» и «ясно», напротив, организуют и совершенствуют «сновидческий мир» «экранной» и «дисплейной» культуры, в фантомах которой глохнут зовы совести, вины и покаяния.
Организуют и совершенствуют не только «сновидческий мир» культуры, но также — и это самое важное — «сновидения философии.
Не будет большой ошибкой сказать, что почти все умственные ресурсы потребительской цивилизации, как водится в «парадигме» науки, становятся функцией «власти тела», и это составляет бессознательное самой философии, ее предрасположенность и характер любви к истине. А как же еще? Бог умер в человеке, человек же умер в теле и «приказал» телу быть и владеть миром…
После того как Фейербах «показал», что человек в небе встречается сам с собой, редукции метафизики посыпались как из рога изобилия. Уже Маркс пришел к убеждению, что сознание является производной величиной, зависимой от положения тела в системе производственных отношений. Э. Гартман, Бергсон,
Стр. 59
а вслед за тем Фрейд раскрыли детерминацию сознания миром бессознательного, энергией инстинктов и влечений. Джеймс, Дьюи и другие увидели человеческую деятельность в категории опыта преодоления хаоса телесных переживаний и созидания полезных реакций и определенностей. Кассирер, Витгенштейн, Гален и другие подвергли анализу способы дистанцирования от чувственных выражений и переживаний как «разгрузку» через язык…
Наконец, Хайдеггер подверг философскому анализу самое конечность телесности и показал, что бытие (Dasein) может быть самотождественным только как бытие-к-смерти. Смерть, и только она, сообщает фактическую целостность существованию; это значит, бытия нет, а есть «бытие субъекта небытия», и мерой этого бытия является время, вмещенное во временность,— «просвет» бытия, в котором человек стоит в «открытости бытия». Итак, «мысль преодолевает метафизику не тем, что, взобравшись еще выше, перешагивает через нее и «снимает» ее, куда-то «поднимая», а тем, что спускается назад в близь Ближайшего»… [10] Спуск ведет «в нищету эк-зистенции», каковой является Язык — «кров Бытия», «жилище экзистенции». И вот мы узнаем, что в языке (!) снимается «престиж философии», отвлеченность идеи, и мысль, наконец, становится «простой», «уместной», «несет себя бытию как захватывающему в нищете предваряющего существа» и возводит в «область Целительного» [11].
В радикальном обновлении конечного человеческого опыта, стало быть, приходит простота — отрезвленная в историческом пути мера истины бытия и бытие истины. Человек спустя 25 веков исканий возвращается к себе как мере всему, но возвращается «назад»— не в простоту света, а в простоту земли; и это показывает, что «фундаментальная онтология» есть учение о бытии тварного, радикально дистанцированного от нетварного. Такова, видимо, цена, которой оплачена предельная глубина «обнищания экзистенции» в элементе ума. Не молитвенным подвигом, не аскезой раздвигается «просвет» бытия в «открытость» его благодатных порядков, а магическими прельщениями языка — последней надеждой интеллектуально смирившейся, но не оцерковленной души на то, что слово станет плотью…
Поистине, сам этот страшный контраст между могучей техникой философствования, играющей поэтической радугой последних духовных глубин, и тщедушным итогом, сводящим все к какой-то «метатерапии» мысли «сказом», «простотой сказывания»,— говорит о многом. Видимо, действительно червь гносеологизма источил вконец родительное лоно философии, так что она сама уже это трагически чувствует и отчаянно ищет Глагола: бессознательно она на страшной глубине, можно сказать,— у корней и над Бездной (и видит многое: Свет сущего, Призвание человека, Присутствующее и даже Целительное!), а сознательно — не может
Стр. 60
идти вперед, боится падать, стелит «соломку» рационализма, не вступает в «огненную ограду», а лишь эстетически осязает ее и, прости Господи, облизывается.
Тем самым философия и впрямь обнажает свой конец, но не у подножия мистического, а лишь у истоков поэтического.
Да, несомненно, все эти (и многие другие) капитальные и глубокомысленные исследования различных модусов развоплощения бытия представляют собой подлинное обогащение представлений о логосной структуре жизни, потенцирующее огромную познавательную чуткость к тайнам Всеединства. Но трагизм ситуации заключается в том, что вне церковного сознания и эта гноза подпадает под парадокс герменевтики: не видя эсхатологических горизонтов богочеловечества, она исследует близлежащее редуцированно и потому невольно становится на службу утилитарных и довольно пошлых целей развития технократической культуры, служит не самоопределению и восхождению «тела» культуры, а его эффективному самоизживанию.
Глядя под этим углом зрения на европейскую цивилизацию ХХ века, невольно видишь: она становится словно бы единым выдохом культуры в алгоритмы техники, своего рода «снятием» культуры технатурой. Государство стало техникой общественного порядка; свобода — техникой вероятности, искусство — техникой общественного чувства, педагогика — техникой воспитания, религия — техникой абсолютного трансцендирования, эрос — техникой телесного общения… и т. п. Увы, мы приводим не фигуральные, а предметные определения, бытующие в серьезной литературе, и следует согласиться с проницательным суждением М. Хайдеггера о том, что «на самом деле с самим собой, т. е. со своей сущностью, человек сегодня как раз нигде уже не встречается» [12].
Мы не хотим сказать, что русская религиозно-философская мысль не знает соблазнов «слишком человеческого». Ей знакомы и острые искушения платонизмом, и редукции христианства в постулаты историософии, и настоящие приступы морализма; она умела строить и мессианские и националистические спекуляции на православии, знала и склеротическую неблагодарность к Европе, и смертоносные припадки резиньяции, и невроз сопротивления злу насилием… Словом, как всякий живой организм, она несет в себе все зачатки ереси жизни, стало быть — и «историю болезней». Исследовать ее в свете научной совести и критики — задача огромная и неотложная. Но мы не об этом.
Здесь важно подчеркнуть, что русская философия, что бы о ней ни говорилось, является от начала и до конца христоцентричной. Это значит, что она, так сказать «одесную и ошую» себя радикально онтологична и радикально экзистенциальна, то есть является действительно цельным философским полилогом о Богочеловеке и богоцеловечестве. Это свойство, позволяющее ей,
Стр. 61
невзирая на персоналистическое разномыслие, быть в единстве многоголосого текста, видимо, ее национальное призвание и судьба.
Когда мы говорим об ее онтологизме, мы имеем в виду то, что она не вязнет в гносеологии и хотя не чужда ее проблематике, решительно устремлена к соборным реальностям сущего, отдельным моментом которого становится человек. Благодаря этому основной интенцией русской мысли является София, светлая грань мира и космоса, столь потемневшая сегодня. Здесь русская идея — настоящее благовестие о жизни, которое не в силах заглушить никакой научно-технический фетишизм.
Она, мы говорим, экзистенциальна, потому что исходит из трагедии богооставленности и следует ей не из академической прихоти и любопытства, а оплачивая добытые знания кровью сердца и болью совести, изнывающей во зле. Ей дано видеть в каждом, даже изуверском сердце, неутоленную тоску по Христу, скорбный угол покаянного поворота души, страждущей благовестия.
Но, главное то, что благодаря вселенской силе воплощенного Логоса — «Иже везде Сый и вся исполняяй» — онтологизм и экзистенциализм русской мысли максимализированы как ни в какой другой философии мира и тем самым взаимно отнесены к соборной правде Церкви. Христоцентричный онтологизм, предельно трансцендентный, выходит здесь из плена мифологизма и символизма; христоцентричный экзистенциализм, страдающий во Христе, становится предельно выносливым и потому способным, так сказать, вынести экзистенцию из плена психологизма.
В тесной же синергии богочеловечества душа удостаивается внимать иконическому «языку вселенной», разработанному отцами Церкви учению о непостижимой тайне Святой Троицы, благодатные энергии которой — Премудрость, Жизнь, Сила, Правда, Любовь, Бытие и т. д.- и не снились никакой, пусть даже самой «фундаментальной онтологии».
Всего этого достаточно, чтобы русская религиозная идея воспринята была действительно как Целительное современной культуры, собранное и очищенное на кресте мучительных раздумий и страданий, нужное не только тяжело недужной России (совестно об этом говорить), но всему болеющему миру.
Христианство есть приток свежего воздуха в атмосферу вселенной, и где оно приходит воистину, там таинственно расцветает жизнь. Нечего и говорить о том, какую духовную и материальную прибыль сулит квалифицированное и открытое культивирование христианской идеи жизни. Но об одном скажем: наша бедность, связавшая индивидуальную и общественную жизнь тяжелым ярмом неустройства, в общекультурном исповедании евангельской правды способна обернуться настоящим историческим преимуществом, едва ли не промыслом Судьбы.
Стр. 62
В условиях, когда экологическая перспектива перекрывает собой не только метафизические, но и физические горизонты жизни, весь просвещенный мир приходит к пониманию неотвратимости ограничений индустриально-технической гигантомании и производственного активизма. Без настоящего аскетического поста и отрезвления потребительской культуры гибель неминуема. Но и сказано не напрасно, что «забота века сего и обольщение богатства заглушает Слово, и оно бывает бесплодно» (Мф. 13: 22) .
Не русский ли это шанс? И хотя мы не обольщаемся, но не можем не вспомнить, что был уже момент истории, когда Россия, дотла разоренная, рабски униженная и еще не вовсе свободная от гнета Орды, сделала решительный поворот к истокам своей культуры, тихо и смиренно придвинула жизнь к Благовестию о ней, и вскоре за одно, много — два поколения, вся русская жизнь приподнялась, заколосилась, расцвела такими плодами святости, красоты, духовной свободы и хозяйства, каких, мы решаемся сказать, не было никогда и ни у кого.
Увы, размещение общих сил жизни и культуры нашей не в пользу этих слов — это так. Но христианской точке зрения не привыкать, это — ее позиция: ведь человек послан Богом, чтобы осуществиться и раскрыться как образ и подобие не по способу эманации и выведения «из себя» богоподобия, а путями творческой жертвы, аскетической верности, молитвенного подвига. Эти пути зависят не от условий и предпосылок, а от решимости и усилия идти на риск созидания в себе нового бытия, и риск имеет по дару призвания каждого столько шансов, сколько твердой веры, то есть взаимной любви Бога и человека.
«Я с вами во все дни до скончания века…» — больно и сладко вникать и обживать светлый простор этих прощальных слов Господа, связывающих нас премирной радугой завета и любви. И никуда не надо «спускаться»: в дивном пространстве этих слов мы себя Дома и под Кровом.
- «О цели христианской жизни»: Беседа преп. Серафима Саровского с Н. А. Мотовиловым. Сергиев Посад, 1914. С. 5.
- Цит. по: Поснов М. Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей — 1054 г.). Брюссель, 1974. С. 530-531.
- См.: Зиммель Г. Микель Анджело: К метафизике культуры // Логос. 1911. Кн. 1.; Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982. С. 120-138.
- Эккерман И. Разговоры с Гёте. М., 1981. С. 77.
- Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Вопросы философии. 1989. М 5. С. 123.
- Гегель. Философия религии. М., 1977. Т. 2. С. 205. Такое видение абсолютной сущности является завершением интеллектуалистической утопии Оригена, Климента и всей линии латинского философского гнозиса, делающего Бога соприродным познающему уму, «Богом философов».
- Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46. Ч. 1. С. 386-397.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. худ. произв. Т. 11. М., 1974. С. 172.
- Печчеи А. Человеческие качества. М., 1985. С. 168.
- Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Проблема человека в западной философии. М., 1988. С. 346.
- Там же. С. 342-356. 12. Хайдеггер М. Вопрос о технике // Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. С. 60. Таков итог исповедания свободы в постулате исполненных возможностей выбора, отбора и конкуренции форм, функций и целей технической мощи. Техника, таким образом, «снимает» человечность и становится поистине антропологией, релевантной homo mensura как с точки зрения экстериоризации телесных и сенсорных параметров, так и в ментальном отношении (ибо даже бессознательное через техническое изобретение все более осознается и «открывается» для технического же овладения человеческой психикой и интеллектом). Вот почему в этом процессе самое бытие подвергается огромному риску быть тотально закрытым техникой. Ведь вместе с выбором техники как могучего ограна культуры человек одновременно выбирает и всю организацию технической цивилизации, и там, где сущность бытия предстает совокупностью инструментальных причин, человек с необходимостью убеждается, что он повсюду имеет дело только с самим собой, т. е. со своей технической энтелехией. Однако видеть, на манер Хайдеггера, в обострении этой опасности прорастающие побеги «спасительного» — значит «спасаться» лишь в границах конечной сущности, имманентной бытию homo mensura. В самой основе этого бытия осуществлен как бы обрыв качества, методическое погашение одушевленности, и потому конечность этого бытия, его смертность становится диалектическим моментом его «технического несовершенства», так сказать, аварийного состояния, коррелятивного зрелости и целостности технической цивилизации. Чернобыльская катастрофа с жуткой фактической простотой показала, что «прокладка» между цивилизацией и ее конечностью измеряется толщиной в бумажный лист, содержащий правила технической безопасности. Такого сближения жизни и антижизни не было еще никогда на свете, но поскольку большинство людей открыто выбирают эту цивилизацию, становится ясно, что путь к апокалипсису является всецело техническим. Подлинное спасение не в крайности риска, не в «сдержанном» существовании «возле» и «около» него, но и не в сохранении ветхого и не в пересоздании его… Все это уже было и погибло, ибо «люди более возлюбили тьму, нежели свет» (Ин. 3, 19), и, чтобы «не обличались дела их», всегда искали спасения своей сущности «возле» и «около» тьмы. Именно об этом возглашал Господь в ночной беседе с одним из начальников и учителей иудейских: «Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар?..» Иисус отвечал: «Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше» (Ин. 3, 3, 6-7). Евхаристическая реальность этих слов (а только в них и может homo mensura претвориться в homo divinans) вновь становится благовестием фактического спасения.
* Публикуется по: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВОЗНАНИЯ.Выпуск № 5. Сборник научных трудов. ЛГИТМиК им.Н.К.Черкасова. Ленинград.1990. С.С.5-63
Об Анатолии Куклине ЗДЕСЬ: СПАСЁННАЯ ПЬЕСА СОЛЖЕНИЦЫНА
Связанные публикации: ЭСХАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМА В РУССКОЙ МЫСЛИ
