Илл.: Д.Моор. Плакат 1919 г. «Царские полки и Красная армия. За что сражались прежде, за что сражаются теперь».
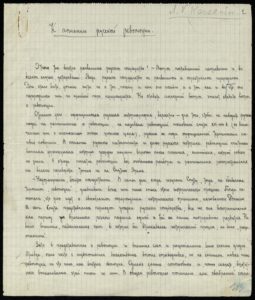 Отчего так быстро развалилось русское государство? – Вопрос, поставленный неправильно и, во всяком случае, устаревший. Ведь русское государство не развалилось, а перестроилось, переродилось. Речь, стало быть, должна идти не о том, почему и как оно погибло, а о том, как и во что оно переродилось или, по крайней мере, перерождается. Но ставить последний вопрос, значит, ставить вопрос о революции.
Отчего так быстро развалилось русское государство? – Вопрос, поставленный неправильно и, во всяком случае, устаревший. Ведь русское государство не развалилось, а перестроилось, переродилось. Речь, стало быть, должна идти не о том, почему и как оно погибло, а о том, как и во что оно переродилось или, по крайней мере, перерождается. Но ставить последний вопрос, значит, ставить вопрос о революции.
Странное дело: официальная русская историография, вероятно – для того, чтобы не наводить русских людей на размышления о революции, не называла революцией московской смуты XVI—XVII в. (со включением или исключением эпохи грозного царя), русские же люди официальной терминологии наивно поверили. В сознании русского интеллигента и даже русского историка революцией считалась великая французская, которую усердно изучали, впрочем, плохо понимая, английская, которой совсем не знали. А отсюда понятие революции без особенного разбора и размышления распространялось на всякие перевороты, только не на Смутное Время.
— Недоразумение, богатое последствиями. В самом деле, когда изучали Смуту, тогда не сбиваемые термином «революция», улавливали более или менее смысл этого исторического процесса. Тогда понимали, что дело идет о своеобразном перерождении исторического организма, называемого Россиею. И если Смута представлялась периодом упадка русского государства, все же она воспринималась как период временного резкого падения одной и той же линии непрерывного развития. Не было внешних, механических схем, в которые бы втискивался исторический процесс, не было «рационализма».
Зато в представлениях о революции и внешних сил, и рационализма было сколько угодно. Правда, очень часто с глубокомыслием высказывалась вполне справедливая, но не слишком новая мысль: революция не что иное, как быстрая эволюция. Однако дальше голословного и, можно скзать, безотчетного высказывания этой мысли не шли. В общем, революцию понимали как своеобразный сознательный акт, как планомерную деятельность народа, адекватно выражаемую революционною идеологиею. И в этом смысле говорили, да еще и говорят о «завоеваниях революции», в этом смысле занимались и еще ханимаются «подготовкою революции».
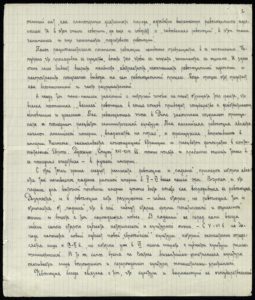 Такое рационалистическое понимание революции неизбежно превращается в ее непонимание. Немудрено, что проглядывая ее существо, вместо того, чтобы ее изучать, занимаются ее оценкою. И здесь очень легко бывает вскрыть наивность, абстрактность, нежизненность революционной идеологии и распространить получаемые выводы на сам реолюционный процесс. Тогда процесс этот предстает как бессмысленный и чисто разрушительный.
Такое рационалистическое понимание революции неизбежно превращается в ее непонимание. Немудрено, что проглядывая ее существо, вместо того, чтобы ее изучать, занимаются ее оценкою. И здесь очень легко бывает вскрыть наивность, абстрактность, нежизненность революционной идеологии и распространить получаемые выводы на сам реолюционный процесс. Тогда процесс этот предстает как бессмысленный и чисто разрушительный.
А между тем мало-мальски знакомый с историей человек не может отрицать того факта, что всякая несомненная «великая» революция в конце концов приводит государство к действительному обновлению и усилению. Так революционная эпоха в Риме закончилась созданием принципата и последним расцветом эллинистической культуры. Так английская революция является началом английской империи, «владычества на морях», а французская, выразившаяся в империи Наполеона, заканчивается консолидацией Франции и расцветом демократии в континентальной Европе. Русскую Смуту XVI—XVII вв. можно понять и правильно оценить только в следствиях — в русской истории.
С этой точки зрения следует различать революцию и «падение», примером которого является так называемое «падение римской империи в V—VI веках нашей эры. Впрочем, и это падение для восточной половины империи должно быть понято как возродившая ее революция. Разумеется, и в революции есть разрушение – гибель старого; но революция тем и отличается от «падения», что в ней гибнут старые формы политической и социальной жизни и вместе с тем нарождаются новые. В «падении» же перед нами всегда гибель самого старого субъекта исторической и культурной жизни. – С V—VI в. на Западе намечается новый субъект новой «европейской» культуры», который окончательно определяется лишь к IX—X в., но которого уже в VI нельзя смешать с субъектом культуры римско-эллинистической. В то же самое время на Востоке византийско-христианская культура оказывается лишь возрождением и перерождением культуры эллинистически-христианской.
Революция всегда связана с тем, что культура и выражающий ее огосударствленный народ обладают еще жизненными силами и возможностями. По существу своему революция – болезнь роста, обострение творческого процесса. Впрочем, она случается в разные периоды культурного развития: и тогда, когда культура еще не достигла своего апогея, и тогда, когда за свой апогей уже перевалила. Таким образом, иногда революция начинает эпоху полного раскрытия культуры, как эпоха столетней войны во Франции, иногда же является началом своего рода кульутрной реставрации, как в Риме.
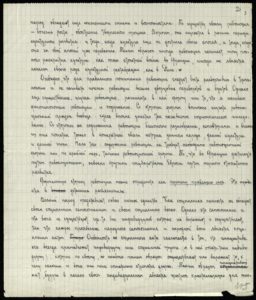 Очевидно, что для правильного понимания революции следует быть разборчивым в терминологии и не называть именем революции всяких дворцовых переворот и бунтов. Однако еще существеннее, изучая революцию, различать в ней форму или то, что называю феноменологиею революции, и содержание. Со стороны формы возможно изучать революционный процесс вообще: здесь вполне уместно так называемое социологическое исследование. Со стороны содержания революции бесконечно разнообразны, неповторимы и всякая из них понятна только в конкретной связи истории данного народа данной культуры и данной эпохи. Мало того: содержание революции не требует необходимо революционной формы или, по крайне мере, частично революционной формы. То, что во Франции достигнуто путем революционным, освоено другими государствами Европы путем мирного относительно развития.
Очевидно, что для правильного понимания революции следует быть разборчивым в терминологии и не называть именем революции всяких дворцовых переворот и бунтов. Однако еще существеннее, изучая революцию, различать в ней форму или то, что называю феноменологиею революции, и содержание. Со стороны формы возможно изучать революционный процесс вообще: здесь вполне уместно так называемое социологическое исследование. Со стороны содержания революции бесконечно разнообразны, неповторимы и всякая из них понятна только в конкретной связи истории данного народа данной культуры и данной эпохи. Мало того: содержание революции не требует необходимо революционной формы или, по крайне мере, частично революционной формы. То, что во Франции достигнуто путем революционным, освоено другими государствами Европы путем мирного относительно развития.
Формальную сторону революции можно определить как перемену правящего слоя. Это нуждается ближай детальных разъяснениях.
Всякий народ представляет собой личное единство. Как социальная личность он обладает своим социальным самосознанием и своею социальною волею. Однако это самосознание и эта воля не существуют где-то вне индивидумов, которые их выражают и осуществляют, так что каждое проявление народного самосознания и народной воли является социальным актом. Особенность же социального акта заключается в том, что инициативы его всегда принадлежит индивидуму или социальной группе (в ней опять-таки индивидуму), которые по своему, но наиболее полным образом осуществляют или выражают то, к чему склонны и более или менее сознательно склоняются другие. Таким образом, инициативный акт, будучи в начале своем индивидуальным, является центром кристализации для множества аналогичных актов, которые им вызываются к бытию, его по своему повторяют, конкретизируют, активно либо хоть пассивно поддерживают и вместе с ним составляют один гармонический социальный акт.
 Ясно, что сама возможность социальных актов, без которых социальные самосознание и воля остаются в потенциальном состоянии, обсуловлена наличием организации или – для такого большого организма, как народ – государственную организациею . И понятно, что смысл государства именно в том, чтобы народ в социальной своей деятельности мог осуществить свою волю, раскрыть своей самосознание, развить свою культуру.
Ясно, что сама возможность социальных актов, без которых социальные самосознание и воля остаются в потенциальном состоянии, обсуловлена наличием организации или – для такого большого организма, как народ – государственную организациею . И понятно, что смысл государства именно в том, чтобы народ в социальной своей деятельности мог осуществить свою волю, раскрыть своей самосознание, развить свою культуру.
Государственная организация может быть более или менее совершенной, но в ней всегда есть и должно быть разделение на правящий слой и массу населения. Правящий слой, это правительство в узком смысле слова, постоянные и периодические «органы» государства и еще та среда, которая ближайшим и постоянным образом с правительством связана, «интеллигенция».
В нормальных условиях правящий слой органически связан с массой населения, он из нее вырастает и пополняется, с нею многообразно общается и потому именно оказывается ее волевыми сознательным центром. Такая связь существует во всяком здоровом государстве: в деспотии не меньше, чем в демократической республике. Но качество и прочность государственной формы определяется тем, насколько ею обеспечивается реальность, постоянство т длительность этой связи. И здесь открывается путь к сравнительной оценке разных форм государственного устройства.
Однако при всякой форме государственного устройства, при одних скорее – при других медленнее, в конце концов наступает происходит разрыв между массою населения и ее правящим слоем. Правящий слой замыкается в себе и обособляется. Некоторое время по инерции он еще является «народным» выразителем народного самосознания и воли. Но чем далее, тем более он живет своими интересами и идеалами, денационализируется и в конце концов перестает выполнять свою задачу и действует уже вопреки народным идеалам. Обычно это сопровождается тем, что правящий слой поддается влиянию чужой культуры, понемногу становясь чужбиной на своей родине. Так правящий слой Риме эллинизировался, во Франции англинизировался, в России европеизировался.
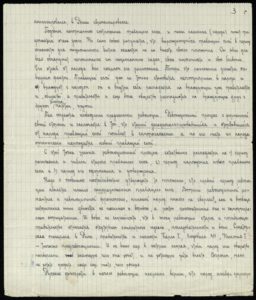 Подобное ненормальное соотношение правящего слоя и массы населения (народа) может продолжаться очень долго. Но само собою разумеется, что вырождающийся правящий слой в период опасности для национального бытия окажется не на высоте своего положения. Он явно для всех обнаружит непонимание им национальных задач, свою иноземность и свое безволие. Его отрыв от народа был началом его разложения. Теперь это разложение делается очевидным фактом. Правящий слой уже не только становится непопулярным в народе и враждует с народом: он и внутри себя разлагается на враждующие уже правительство и «общество», а правительство и еще более общество распадаются на враждующие друг с другом течения, партии, группы.
Подобное ненормальное соотношение правящего слоя и массы населения (народа) может продолжаться очень долго. Но само собою разумеется, что вырождающийся правящий слой в период опасности для национального бытия окажется не на высоте своего положения. Он явно для всех обнаружит непонимание им национальных задач, свою иноземность и свое безволие. Его отрыв от народа был началом его разложения. Теперь это разложение делается очевидным фактом. Правящий слой уже не только становится непопулярным в народе и враждует с народом: он и внутри себя разлагается на враждующие уже правительство и «общество», а правительство и еще более общество распадаются на враждующие друг с другом течения, партии, группы.
Так создаются необходимые предпосылки революции. Революционный процесс с формальной стороны и заключается в том, что старый денационализировавшийся и оторвавшийся от народа правящий слой погибает в саморазложении, а на его места из народа органически нарождается новый правящий слой.
С этой точки зрения революционный процесс естественно распадается на 1) период разложения и гибели старого правящего слоя, 2) период нарождения нового правящего слоя и 3) период его оформления и утверждения.
Надо с особенной настойчивостью утверждать то положение, что первый период революции именно саморазложением правящего слоя. Вопреки революционной романтике и революционной фразеологии, никакой народ не свергает, как и вообще историческая жизнь движется не насилием и борьбой, а ростом положительных сил и самоумиранием отрицательных. И вовсе не случайность, что в эпоху революции старое и погибающее правительство отличается отсутствием конкретного идеала, последовательности и воли. Сенаторская олигархия в Риме, правительство и личности Карла I, Людовика XVI, Николая I — типично предреволюционны. И не было еще в истории случая, чтобы народ или общество низвергали знающую, чего она хочет, и не хотящую уйти власть. Впрочем, мало не хотеть уходить: надо еще знать, чего хочешь.
Русские демократы в начале революции искренне верили, что народ низверг царскую власть. Это было проявлением революционной романтики. – На самом деле, царская власть была устранена обществом, т.е. другою частью того же правящего слоя, и даже не устранена была, а безвольно капитулировала пре «обществом», которое само оказалось способным лишь на «Временное» (лучше бы «кратковременное») «Правительство», на яркое выражение своего собственного безволия и своей собственной негодности. Временное Правительство, а с ним и в нем общество так же погибло во внутренней анархии, как и правительство императорское.
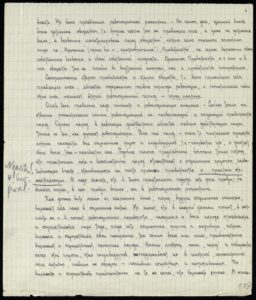 Саморазложение старого правительства и старого общества, т.е. всего пережившего себя правящего слоя, является содержанием первого периода революции; и политическая гибель этого слоя начинает второй революционный период — эпоху анархии.
Саморазложение старого правительства и старого общества, т.е. всего пережившего себя правящего слоя, является содержанием первого периода революции; и политическая гибель этого слоя начинает второй революционный период — эпоху анархии.
Опять таки правильно надо понимать и революционную анархию. – Сейчас только мы отвергли романтические ссылки революционеров на низвергающий и созидающий правительства народ. Однако народ в революции действительно является главным действующим лицом, только не так, как думают революционеры. Для них народ – какое-то мистическое существо, которое находится вне социальных групп и индивидумов, т.е. неизвестно где, и диктует свою волю, тоже неизвестно как. Подобное нелепое представление возможно только потому, что практически, хотя и бессознательно народ отожествляют с социальною группою, захватывающею власть, становящеюся на место прежнего правительства и … приятною отожествляющим. И надо сказать, что в таком практическом подходе есть своя доля правды; во всяком случае, в нем правды больше, чем в революционной романтике.
Как должно быть ясным из сказанного выше, народ, будучи социальной личностью, выражает себя лишь в социальных актах. Это значит, что в каждый данный момент, в частности же – в момент революционного переворота, намерения и воля народа проявляются и осуществляются лишь тогда, когда есть социальная группа и индивиды, которые выражая и осуществляя свои намерения, тем самым более или менее, приблизительно выражают и осуществляют намерения народа. Именно поэтому массы, «народ» и собираются около этой группы, этих индивидумов, поддерживают их в некоторой, незначительной мере активно, главным же образом -пассивным сочувствием и непротивлением. Но выражать и осуществлять приблизительно не то же самое, что выражать хорошо. В описываемой пассивной, а частью и активной поддержке есть элемент примиряемости с индивидуальными уклонами и ошибками поддерживаемых. В некоторой мере массы вынуждены, как выразительно говорят немцы, «ins Kauf nehmen» недостатки тех, кого они поддерживают, ибо и поддерживают то они их так как меньшее, чем прежнее зло, как наименьшее зло вообще.
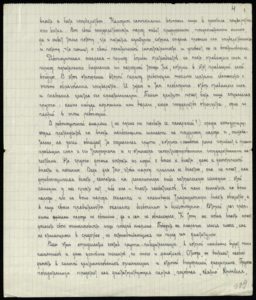 Поэтому поддержка их не безусловна. Если появится новая социальная группа и новые индивидуумы, которые выразят народную волю с приближением бо́льшим, лучше, масс более или менее скоро на них свою поддержку и перенесут. Ровным образом и колебания народного сознания и народной воли неизбежно найдут себе выражение в появлении и взаимной борьбе нескольких руководящих групп.
Поэтому поддержка их не безусловна. Если появится новая социальная группа и новые индивидуумы, которые выразят народную волю с приближением бо́льшим, лучше, масс более или менее скоро на них свою поддержку и перенесут. Ровным образом и колебания народного сознания и народной воли неизбежно найдут себе выражение в появлении и взаимной борьбе нескольких руководящих групп.
Конечно, описываемое отношение народа к руководящим группам сказывается и определяется не путем сговора и всеобщего голосования, но в порядке однородности индивидуальных реакций, их интегрирования и гармонизации. Народная воля выражается только в действиях социальных групп и индивидуумов. За редким исключением мы познаем ее лишь задним числом. Но с этими оговорками и при условии отказа от романтического ее игнорирования мы о ней говорить и можем, и должны. Ибо она не фикция, а самая полновесная реальность. Ак раз вследствие потенциальности и невыразимости ее вне индивидумов мы и предпочитаем такие определения как «народный инстинкт», «бессознательная» или «инстинктивная мудрость народа», «гении» или «дух народа», народная душа и т.п.
Вскрытая нами «механика» позволят правильно понять революционную анархию. – После падения первой революционной власти , сменившей традиционную, после самоуничтожения правящего слоя в лице не только правительства, а и общества в стране как будто и нет власти. Однако это безвластие или эта анархия происходит потому, что слишком много властей. Каждая социальная группа и чуть ли не каждый индивидуум считают себя носителями народной воли и отожествляют себя с народом. И в этом стремлении всех быть всенародною властью сказывается мудрый инстинкт народа. Для того, чтобы обладать самосознанием и волею, жить личною сознательною жизнью, народ должен обладать правящим слоем. А обладать правящим слоем, значит, иметь власть и быть государством. Народное самосознание возможно лишь в условиях государственного бытия. Вне своей государственности народ живет придушенною, полусознательною жизнью, да и живет только потому, что питается культурою, которая создана прежнею его государственностью и потом, что помнит о своей политической самостоятельности и уповает на ее восстановление.
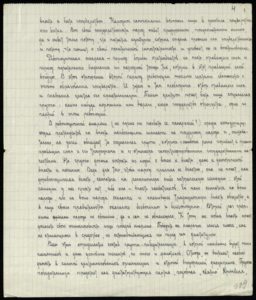 Революционная анархия – период борьбы претендентов на место правящего слоя и период мучительного выделения из народной толщи тех, которые в этот правящий слой войдут. В этом отношении второй период революции многими чертами с эпохою образования государства. Таким центром может быть лишь социальная группа: какие-нибудь норманны или варяги, когда государство образуется, одна из партий в эпохи революций.
Революционная анархия – период борьбы претендентов на место правящего слоя и период мучительного выделения из народной толщи тех, которые в этот правящий слой войдут. В этом отношении второй период революции многими чертами с эпохою образования государства. Таким центром может быть лишь социальная группа: какие-нибудь норманны или варяги, когда государство образуется, одна из партий в эпохи революций.
В революционной анархии ( не лучше ли назвать ее панархией?) среди конкурирующих претендентов на власть наибольшими шансами на поддержку народа и, следовательно, на успех обладает та социальна группа, которая 1) наиболее резко порывает с прежним правящим слоем и его традициями и 2) отличается гипертрофированными государственными качествами. Эта группа должна состоять из людей с волею власти, даже к деспотической власти и насилию. Ведь для того, чтобы народ признал ее властью, она не может, как дореволюционная власть, ссылаться на религиозную или историческую санкцию: этой санкции у нее просто нет , ибо на волю народа ссылалось и сменившее традиционную власть общество, в лице своего правительства оказалось безвольным и беспомощным. Второй раз громкими фразами народа не обманешь, да и сам не обманешься. К тому же новая власть может доказать свою жизнеспособность, лишь победив анархию. Победить же анархию нельзя иначе, как не стесняющеюся в средствах, не останавливающеюся ни перед чем диктатурою.

Всем этим определяется состав группы-победительницы, в которой неизбежно будет много насильников и даже уголовных элементов, но много и фанатиков. Отсюда же вытекает необходимость в сильной централизованной организации и строгой внутренней дисциплине. Группа победительница предстает как диктаторствующая партия, подобная «святым» Кромвеля, якобинцам, большевикам. И если вовсе не необходимо, чтобы революция завершалась военною диктатурою, диктатура партии в процессе революции необходима. Эта партия может возникнуть в эпоху революции или может быть до-революционною партиею, которая в революции лишь захватывает власть и внутренно перерождается, как партия большевиков и частью партия фашистов в Италии, но без нее революции не бывает. На самый худой конец она может быть до некоторой степени замещена диктатурою вождя и генералитета армии, как в Риме.
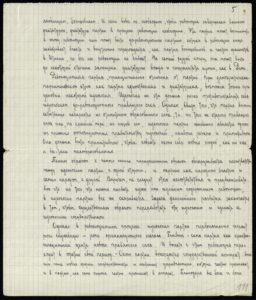 Революционная партия, принципиально отличная от партий при демократически-парламентском строе как партия единственная и диктаторская, возможна только при условии некоторой идеологии. Идеология же эта должна резко противопоставлять себя идеологиям дореволюционного правящего слоя. Однако ввиду того, что партия вполне естественно набирается из относительно образованного слоя, т. е. из того же старого правящего слоя или, по крайней мере, из низов его, идеология партии неизбежно является одною из прежних оппозиционных правительству идеологий, наиболее резкою и примитивною. Она должна быть примитивною, чтобы собрать около себя новых людей, как-никак, а все-таки малообразованных.
Революционная партия, принципиально отличная от партий при демократически-парламентском строе как партия единственная и диктаторская, возможна только при условии некоторой идеологии. Идеология же эта должна резко противопоставлять себя идеологиям дореволюционного правящего слоя. Однако ввиду того, что партия вполне естественно набирается из относительно образованного слоя, т. е. из того же старого правящего слоя или, по крайней мере, из низов его, идеология партии неизбежно является одною из прежних оппозиционных правительству идеологий, наиболее резкою и примитивною. Она должна быть примитивною, чтобы собрать около себя новых людей, как-никак, а все-таки малообразованных.
Таким образом, с самого начала парадоксальным образом обнаруживается несоответствие между идеологией партии, с одной стороны, и партиею как народною властью и самим народом — с другой. Впрочем, не следует этого несоответствия и преувеличивать. Кое-что из того, что можно назвать идеею или идейным содержанием революции, в идеологии партии все же сказывается.
Задача дальнейшего развития заключается в том, чтобы существенным образом переработать эту идеологию и сделать ее идеологиею государственною.
Однако в революционном процессе идеология партии первоначально играет роль служебную — роль организующего начала. Главное — сама партия как кристаллизационный центр нового правящего слоя. И вместе с этим революция переходит в третий свой период. Около партии воссоздается государственный аппарат: более или менее новые формы государственности и контингент управляющих, которые частью проникают и в партию, как сама партия частью проникает в аппарат. Благодаря все более и более конкретной работе и постоянному взаимодействию партийных идеологов с новою бюрократиею уже невозможно сохранение первоначальной, отвлеченной идеологии партии. Партия за нее держится, но в состоянии сохранять только прежнюю фразеологию. Чем дальше, тем сильнее обнаруживаются противоречия между революционною идеологиею и жизнью, неадекватность революционной идеологии идее революции. Революционная идеология делается препятствием даже для систематизации и укрепления того, что сделано и намечено революцией.
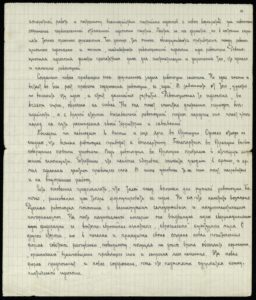 Созданием нового правящего слоя формальная задача революции закончена. Но здесь именно и встает во весь рост проблема содержания революции, ее «идеи». В зависимости от того, удастся ли выяснить эту идею, и стоит дальнейшее развитие. Революционная-то идеология, во всяком случае, обречена на гибель. Но она может смениться длительным периодом безыдейности, а с другой стороны, вызываемый революцией подъем народных сил может увлечь народ на путь расширения своих территорий и завоеваний.
Созданием нового правящего слоя формальная задача революции закончена. Но здесь именно и встает во весь рост проблема содержания революции, ее «идеи». В зависимости от того, удастся ли выяснить эту идею, и стоит дальнейшее развитие. Революционная-то идеология, во всяком случае, обречена на гибель. Но она может смениться длительным периодом безыдейности, а с другой стороны, вызываемый революцией подъем народных сил может увлечь народ на путь расширения своих территорий и завоеваний.
Последнее мы наблюдаем в Англии и еще ярче во Франции. Однако отсюда не следует, что всякая революция приводит к бонапартизму. Бонапартизм во Франции вызван совершенно особыми условиями. Ведь революция во Франции протекала в атмосфере напряженной самозащиты. Естественно, что наиболее здоровые элементы уходили в армию, и армия сделалась центром правящего слоя. В иных условиях те же силы могут направиться и на внутреннюю работу.
Есть основания предполагать, что такой исход возможен для русской революции. Конечно, рискованно уже теперь формулировать ее идею. Но кое-что наметить возможно. Русская революция покончила с великорусским самодержавием и националистическим империализмом. На место национальной империи она выдвинула идею сверхнациональной федерации и восточно-европейско-азиатского, «евразийского» культурного мира. С другой стороны, ею в началах и принципах своих создана новая политическая форма советской республики, по-видимому, могущая на долгое время обеспечить нормальное «органическое» взаимообщение правящего слоя и широких масс населения. Эта новая форма предполагает и новое содержание, пока что подменяемое суррогатом коммунистической идеологии.
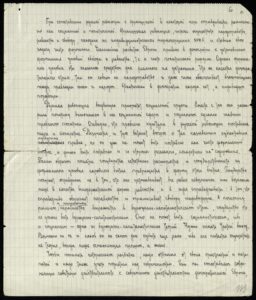 При сопоставлении русской революции с французской в некоторой мере оправдывается различение их как социальной и политической. Французская революция, пытаясь осуществить народоправство, равенство и свободу, исходила из индивидуалистического миросозерцания XVIII в. и ставила свою задачу чисто формально. Дальнейшее развитие Европы привело в демократии к установлению формальных условий свободы и равенства, т. е. к чисто политической реформе. Однако формальные условия эти оказались средством для реального их устранения. Что же касается демократического строя, то он совсем не народоправство и даже плохо обеспечивает взаимообщение между правящим слоем и народом. Фактически в демократии народа в помине нет, а индивидуум порабощен.
При сопоставлении русской революции с французской в некоторой мере оправдывается различение их как социальной и политической. Французская революция, пытаясь осуществить народоправство, равенство и свободу, исходила из индивидуалистического миросозерцания XVIII в. и ставила свою задачу чисто формально. Дальнейшее развитие Европы привело в демократии к установлению формальных условий свободы и равенства, т. е. к чисто политической реформе. Однако формальные условия эти оказались средством для реального их устранения. Что же касается демократического строя, то он совсем не народоправство и даже плохо обеспечивает взаимообщение между правящим слоем и народом. Фактически в демократии народа в помине нет, а индивидуум порабощен.
Русская революция выдвинула приоритет социальной группы. Вместе с тем она расширила политику включением в нее социальной сферы и социальное сделало главною проблемою политики. Очевидно, что проблема культуры в русской революции поставлена шире и конкретнее. Разумеется, и тут встанет вопрос о так называемых субъективных публичных правах, но он уже не может быть поставлен как чисто формальный вопрос, а должен быть поставлен и со стороны реального и конкретного их содержания. Таким образом, понятие государства естественно расширяется, и государственность из формального условия народного бытия превращается в форму этого бытия. Государство получает оправдание не в том, что оно устанавливает все равно невозможное или возможное лишь в качестве бессодержательной формы равенства, а в идее справедливости: в том, что справедливо оберегает неравенство и ограничивает свободу индивидуума. А поскольку реальное и несправедливое неравенство выражается в буржуазно-капиталистическом строе, государство это не должно быть буржуазно- капиталистическим. Оно не может быть социалистическим, ибо и социализм — одна из буржуазно-капиталистических теорий. Нужно искать третий выход. Возможен ли он и каков он на самом деле, судить еще рано, ибо его пытается осуществить не теория, всегда лишь осмысляющая прошлое, а жизнь.
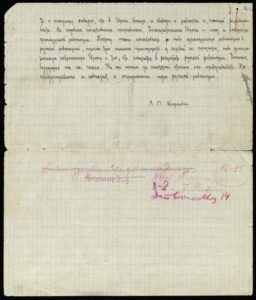 Чтобы понимать историческое развитие, надо отвлечься от своих пристрастий и антипатий и надо также уметь подняться над со-временностью. Если мы сопоставляем современную советскую действительность с современной действительностью демократической Европы, то и младенцу очевидно, что в Европе больше и свободы, и равенства и, пожалуй, справедливости. Но подобное сопоставление неправильно. Демократическая Европа — плод и раскрытие французской революции. Поэтому можно сопоставлять либо французскую революцию с русской революцией, причем тут никаких преимуществ у первой не получится, либо демократическую современную Европу с тем, что получится в результате русской революции. Конечно, будущего мы не знаем. Но мы можем до некоторой степени его предугадывать. Это предугадывание и совпадает с определением идеи русской революции.
Чтобы понимать историческое развитие, надо отвлечься от своих пристрастий и антипатий и надо также уметь подняться над со-временностью. Если мы сопоставляем современную советскую действительность с современной действительностью демократической Европы, то и младенцу очевидно, что в Европе больше и свободы, и равенства и, пожалуй, справедливости. Но подобное сопоставление неправильно. Демократическая Европа — плод и раскрытие французской революции. Поэтому можно сопоставлять либо французскую революцию с русской революцией, причем тут никаких преимуществ у первой не получится, либо демократическую современную Европу с тем, что получится в результате русской революции. Конечно, будущего мы не знаем. Но мы можем до некоторой степени его предугадывать. Это предугадывание и совпадает с определением идеи русской революции.

Текст: Карсавин Л.П. К познанию революции//»Евразия». 1929. №11.
Фотокопии размещены на основании официального разрешения, данного Владимиру Шаронов руководством Библиотеки Литовской Академии наук.
Ссылка на сайт «Русофил» при использовании фотокопий обязательна.
