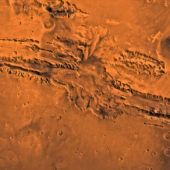Этот материал Алексея Цветкова о Стругацких состоит из двух частей. Первая часть является текстом «Стругацкие: от прогресса к гностицизму». Вторая представляет собой расшифровку беседы о советской фантастике, которая была записана в книжном магазине «Циолковский» для проекта philosoFAQ.
Редакция
Часть I
Стругацкие: от прогресса к гностицизму
Вспомнил, как читал в школе «Волны гасят ветер» Стругацких и сразу вспыхнуло в голове: там ведь всё это есть – ватники и креаклы, 86% и 14% ! У некоторого небольшого числа людей активируется внутри третья сигнальная система, они переходят на новый эволюционный уровень, утрачивают все прежние контакты с обычными людьми и, собираясь вместе и находя друг друга, отваливают с Земли, чтобы создать где-то новую цивилизацию, непостижимую для простых смертных. Простые же люди, составляющие большинство землян, смотрят на этих мутантов с подозрением, безуспешно пытаются их образумить, вернуть в семью и в общество и т.п. Спецслужбы тоже присматривают за отщепенцами, но очень, впрочем, корректно, пытаясь застраховать большинство от какого-нибудь ущерба со стороны мутировавшего меньшинства. Писатели-деревенщики, правда, были уверены, что книга эта про евреев и алию, скрытая сионистская агитация. Вообще, очень интересно следить, как менялось представление Стругацких о социальной эволюции и сопоставлять эти этапы с тем, что параллельно происходило в стране и в мире.
В начале 1960ых («Полдень») – прогрессивный скачок человечества в царство свободы и могущества не за горами и очень скоро вся земля и ближний космос превратятся в один сплошной Академгородок («Понедельник»).
В середине 1960ых («Хищные вещи»): Да, у нас-то скачок на советской скорости, а вот западное общество потребления может зайти в тупик наркотического гедонизма, из которого его хрен выковыришь.
В конце 1960ых: («Сказка о тройке») – вот только этому качественному переходу у нас немножко мешает туповатая бюрократия.
«Гадкие лебеди» – особую роль в переходе к новой цивилизации сыграют дети, война поколений, молодежная революция.
Общий вывод из 1960ых («Попытка к бегству», «Трудно быть богом», «Обитаемый остров») – да, у нас, конечно, качественный скачок, вот только в третьем мире (на «отсталых планетах») людей легче убить, чем направить по пути прогресса и что с этим делать – не понятно, видимо, всё же пытаться…
Рубеж 1960-70ых («Улитка») – прогресс, конечно, есть «на станции», но «в лесу» всегда будет царить непостижимый хаос и никакой прогресс там невозможен, т.е. сознание это маленькая станция, а бессознательное это огромные джунгли, целый «солярис» (влияние Лема и Фрейда тут очевидно). Человеческая жизнь непропорционально разделена на рациональный минимум и иррациональную львиную долю. Каждая из этих неравных половин по-своему нелепа, но вместе они составляют вечное единство нашей судьбы.
В начале 1970ых («Град Обреченный») – смысл нашего собственного развития для нас принципиально непостижим, мы все участвуем в стройке, чертежа которой у нас нет и не может быть. Наша история, а скорее всего и вообще вся наша «материальная реальность» это эксперимент, в котором мы только объекты исследования, ну в самом лучшем случае – инструменты в непостижимых руках. Вселенная не превратится на наших глазах в Академгородок, потому что она всегда и была ничем иным как одним сплошным Академгородком, но у нас в нём роль исследуемой плесени в чашке Петри и не более.
Дальше («За миллиард лет») – прогрессу препятствует само устройство космоса, идти против которого самоубийственно, но другого пути у настоящего интеллектуала нет.
«Жук в муравейнике» — спецслужбы, пусть и из лучших побуждений, но всё равно помешают контакту человека с высшим разумом и грядущему после этого контакта качественному преображению мира. Тайна тринадцати неотмирных младенцев скрывается блюстителями миропорядка не только от человечества, но и от самих носителей этой тайны.
В 1980ых («Волны») — прогресс есть, но для меньшинства, остальные останутся на обочине и это нормально.
И, наконец, «Отягощенные злом» (1988) — прогресс не то чтобы невозможен, но на фиг никому не нужен в мире, где правит (при посредничестве проклятого Агасфера) гностический Демиург, от которого не убежишь. Альтернативные педагоги только подслащивают эту пилюлю, в лучшем случае воспитывая эскапистов, которые ни на что не повлияют и единственное, что в таком положении важно – не дать системе скатиться назад, в фашизм и средневековье.
Т.е. если понимать их прекрасный «Мир Полудня» (из которого на окраины вселенной пребывают прогрессоры, чтобы мучиться неразрешимыми проблемами) как вероятное будущее «оттепельного» СССР, то тогда получается, Стругацкие были коммунистами и социальными оптимистами примерно до начала 1970ых, а дальше их стали захватывать сомнения насчет бесклассового будущего и гностический миф о недоброй материи, навсегда поработившей разум. А вот если предположить, что их коммунистический «Полдень» с самого начала понимался как нечто невозможное (слишком прекрасное, чтобы хоть когда-то оказаться реальностью), если коммунарская «Земля» из «Трудно быть богом» это никакая и не «Земля будущего», а духовная Плерома, из которой падают к нам прогрессоры, подвижники и великие умы, «царство не от мира сего», из которого приходят сюда герои, чтобы столкнуться с неразрешимостью, обреченностью, непреодолимыми границами и «отягощенностью злом», тогда, получается, что Стругацкие были убежденными гностиками с самого начала и их «коммунизм» есть всего лишь ситуативная (чтобы пройти цензуру) метафора того царства свободных эонов Единого Духа, которое описано в «Пистис Софии» и «Апокрифе Иоанна».
________________________
Часть II
Советская научная фантастика. Стругацкие
Владас Повилайтис: Здравствуйте!
Алексей Цветков: Здравствуйте!
В.П.: Сейчас мы поговорим о советской фантастике. Фантастике 60-х, 70-х годов, о Стругацких и о том, что это вообще такое.
Казалось бы, это не совсем философский сюжет, в том смысле, что это не диссертация, не монография, это фантастика – жанр, по мнению многих, низкий. Но, наверное, если почитать воспоминания, да и просто обратиться к тем, кто жил в эту эпоху, то мы поймём, что для многих (во всяком случае, для советской интеллигенции) фантастика была чем-то, что возможно заменяло не только Библию, но и «Краткий курс истории ВКП(б)». То есть вот это соединение функций, которые она выполняла в советской интеллектуальной жизни, мне кажется, требует отдельного разговора.
А.Ц.: Да, фантастика была той зоной литературы, которая слабее других контролировалась цензурой. В ней могла существовать масса каких-то до конца или не до конца проговоренных вещей, которые не могли существовать в более строгих жанрах, где большие высказывались требования идеологические политической системы. Это важный момент. Кроме того, был важный момент мирового прогрессивного пафоса, связанный с расцветом фантастики по всему миру. В этом смысле советская система не была чем-то уникальным, это был такой мировой бум. Поэтому, когда этот бум фантастики по всему миру закончился, и фантастика во-многом уступила фэнтези (в последние двадцать-тридцать лет), это тоже очень симптоматично и очень важно, потому что фантастика выражала прогрессивные политические и социальные надежды на преобразование общества.
В.П.: Кстати, хороший вопрос. Почему фантастику убило фэнтази и что за этим стоит?
А.Ц.: Начиная с Уэллса фантастика была таким местом, в котором выражались какие-то социальные упования людей. Это могли быть антиутопии, как «Машина времени», это могли быть утопии, как у того же Богданова в «Красной Звезде». Это был бесконечный разговор о том, каким будет общество, что ему угрожает, что такое прогресс, как он кодифицирован, какова цена, которую каждый из нас за этот прогресс заплатит. И, в каком-то смысле, этот пафос в фантастической литературе (в научной фантастике, в социальной фантастике) был связан, зарифмован с таким розовым социал-демократическим ожиданием бесконечных трансформаций, развития, постепенной гуманизации рыночного, капиталистического общества. Когда в 70-х годах конъюнктура идеологическая и политическая на Западе очень сильно изменилась, когда в социальном прогрессе стали гораздо в большей степени сомневаться, когда пришло такое постмодернистское время, на политическом уровне пришли новые лидеры на Западе, вроде Тэтчер и Рейгана и неолибералы – это всё вместе конечно не могло не привести к тому, что литературная конъюнктура тоже очень сильно изменилась. И фэнтези, как жанр более, по сути, архаичный, более брутальный, предлагающий чуть ли не средневековые решения и модели поведения… Каким бы красивым он ни был, но фэнтези отсылает нас к архаическому, мифологическому восприятию, а не к научному, рефлексивному восприятию самих себя и нашего будущего. И тогда произошел вот этот откат и фантастика в том виде, в котором она существовала в эпоху Лема, в эпоху Стругацких, она, кончено, очень маргинализировалась.
В.П.: И тогда просто заодно вопрос: а киберпанк тогда – это что?
А.Ц.: Киберпанк, как раз (он появляется в 70-х годах условно, после панка возникает и киберпанк), он выражает вот эту крайнюю пессимистичность, ощущение, что впереди катастрофа, что стратегия выживания после этой катастрофы или в её момент это поведение отдельных креативных личностей или, по крайней мере, небольших групп, что большая цивилизация обречена, что впереди человечество ожидает цепь каких-то сокрушительных апокалиптических войн, экологических катастроф каких-то, деурбанизация и руинирование. Конечно, это тот самый момент сомнения в прежних фантастических надеждах и прогрессивных идеалах, которые активно росли в западной культурной элите вплоть до середины 70-х годов.
В.П.: Если, кстати, говорить о компьютерных играх, я помню Fallout II – вот, по-моему, абсолютное ощущение (в массовом сознании, в массовой культуре распространённое) того, что будет после, да?
А.Ц.: …после цивилизации. Само ощущение того, что цивилизация – это некий достигнутый уровень, который не будет развит, у которого не будет эволюционного дальнейшего скачка, перехода количества в качество не будет, а будет откат, провал и некое обрушение. Это такая литературная (или на уровне компьютерных игр, на уровне кино очень много) констатация или результат отказа от идеи «большого прогресса», политического прогресса, который произошёл в конце XX века. И крушение советской системы было частью этого отказа и одной из причин изменения литературной конъюнктуры.
В.П.: Тогда возвращаемся к советской фантастике. Она ставила перед собой другие задачи, более смелые, более амбициозные. Она вообще ставила перед собой задачи.
А.Ц.: Ну да, конечно, педагогические, воспитательные, прогностические задачи. И те же Стругацкие описывали свой Мир Полудня. Это была попытка спрограммировать, если угодно, общество, спрограммировать типаж. Для 60-х годов это был типаж крайне востребованный. Проблема всех этих Прогрессоров, проблема этих несущих на окраины (это же тоже такой советский колониальный сюжет, только перенесённый в космос) разум и справедливость сверхлюдей коммунистических, если угодно. Потом, в более позднее время, в 90-х годах Стругацкие, конечно, говорили, что Мир Полудня оказался не нужен большинству людей, нравится нам это или нет. То есть он теоретически возможен, но никакой заданности, никакой исторической логики, направленной неким непротиворечивым образом в эту сторону, оказалось, нет. И он остался одним из каких-то мечтаний, одним из новых мифов эпохи XX века. Не получилось это отчасти и потому что еще такой важный у Стругацких есть момент, который из книги в книгу у них кочует, это момент педагогического похищения детей и подростков из прежней обречённой цивилизации. «Гадкие лебеди» – это самый явный пример, но это отчасти есть и в «Отягощённых злом» и в других их книгах. То есть идея, что дети, которые будут жить в будущем, должны получать некий иной, альтернативный психологический и педагогический опыт потому что той системе, в которой они существуют, осталось жить недолго и они уже являются теми ростками нового, тем эмбрионом новой цивилизации, которая совершит некий качественней скачок. Это было крайне свойственно культивировать педагогам-новаторам советским, было забытое сейчас Коммунарское движение педагогическое 60-х – 70-х годов, для которых Стругацкие входили в интеллектуальный иконостас и которые мечтали создать некую более перспективную, более гуманистическую, более исторически ответственную систему педагогики, чем советская пионерская, комсомольская система.
В.П.: В этой связи вопрос: почему Стругацкие так выстрелили в это время? Почему они стали теми, кем они стали? Я помню, это же был культ, это же стало если и не сектой…
А.Ц.: Для секты там было многовато людей!
В.П.: Да, для секты было многовато, но это стало религией тогда. Потому что по количеству людей это была почти религия, советская, интеллигентская религия и адептов этой «религии» много до сих пор. Почему?
А.Ц.: У этого вопроса есть, наверное, несколько тайных и явных ответов. Явные ответы: это научный и социальный энтузиазм 60-х, который выражен предельно в прозе Стругацких, потом их весьма высокий интеллектуальный уровень, их знакомство с даже не переведённой на русский язык литературой (один из них был переводчиком и хорошо знал и японскую и европейскую литературу). Все эти вещи вместе. Потом, есть еще не явные моменты: при всём гуманистическом атеизме, при всём научном пафосе, при всём космическом социалистическом гуманизме у Стругацких (и чем дальше, тем больше) всегда были намёки и на более древние, мистические, метафизические модели восприятия. Например, из книги в книгу у них переносится совершенно гностический пафос. Он будет описан в «За миллиард лет до конца света», он будет бесконечно возвращаться, он будет и в «Малыше» появляться и окончательно реализуется уже под своим собственным именем – гностицизма и Демиурга в «Отягощённых злом». То есть идея о том, что материальная система сопротивляется интеллектуальной деятельности, материя противопоставляется знанию, знание несёт очень двусмысленную моральную ответственность за свою космическую войну с материей, тёмный Демиург, управляющий материальным миром и некое, не принадлежащее материальному миру, знание, которое зовёт человека и является смыслом его жизни (в научной форме, конечно, это знание выражено у Стругацких), будет бесконечно у них повторяться и повторяться. И все эти идеи с педагогическими экспериментами, которые Стругацкие описывают, тоже будут бесконечно попадать в эту матрицу гностической войны между духом и материей.
В.П.: Мне вот, что интересно еще, такой вопрос. Советская фантастика, идеи Стругацких и марксизм. Я имею в виду не то, что Стругацкие были марксистами или герои Стругацких были марксистами, а вообще, как соединялась и соединялась ли вообще эта официальная советская философия и вот эта фантастика? Потому что, насколько я помню, вся фантастика советская могла быть научной фантастикой.
А.Ц.: Так она называлась.
В.П.: Да, просто все серии так назывались. И, уж конечно, в каком-то смысле, она должна была быть правильной научной фантастикой. То есть, с одной стороны, была некая заданность, должна была соблюдаться её некая включенность в общий, если не философский, то культурный язык, на котором говорил советский человек. И при этом это какой-то свой, особый, своеобразный мир, немножко на отшибе. Как здесь, какие отношения были?
А.Ц.: Как я уже говорил, мне кажется, что фантастика в советском обществе, в советском, по крайней мере, послевоенном контексте социальном, она, конечно, была зоной, которая слабее контролировалась цензурой. Поэтому там могли проявляться какие-то квазирелигиозные, квазиметафизические идеи и так далее. Поэтому, конечно, научная фантастика просто так называлась. Это был способ говорить нечто, что невозможно было сказать в других жанрах.
В.П.: Собственно говоря, в исторических романах нельзя было сказать, потому что у нас было чёткое понимание исторического материализма.
А.Ц.: Конечно! А если это происходит на другой планете все, то гораздо больший коридор сюжетных возможностей возникает. Этот приём идёт ещё от «Аэлиты» Толстого.
С другой стороны, если говорить о Стругацких, то в 60-х годах они были стопроцентными марксистами. Потом, очень интересный момент, когда марксизм на Западе стал обновляться и возникли Новые левые (всё, что связано с молодежной революцией, с Маркузе, с Фроммом), это было очень интересно Стругацким в силу как раз их интереса к педагогике, к воспитанию и к проблеме войны поколений, обновления поколений и социально-политической роли новых поколений в позднеиндустриальном или даже уже постиндустриальном обществе, которое они предвидели. В этом смысле книги, вроде «Гадких лебедей» или более поздняя, написанная в конце 80-х «Отягощённые злом» напрямую посвящены неомарксистской идее молодежной революции. То есть, может ли молодежь, ушедшая из взрослого мира, бросившая ему вызов, дистанцировавшаяся от него максимально, стать неким корректором, неким обновителем, неким реформатором, а может быть, и неким революционным субъектом? Это их крайне волновало и какие-то фамилии вроде Фромма всплывают напрямую в тех же «Гадких лебедях».
В.П.: И тогда, завершая наш разговор, я бы хотел бы вы как-то обрисовали нынешнее положение дел. Современная российская фантастика (не в смысле сюжетов или книг, а в смысле такого идеологического пафоса) о чём говорит, говорит ли вообще о чём-либо? И как то, что она говорит, соотносится с тем, что говорили старшие поколения?
А.Ц.: С одной стороны, даже многие представители старшего поколения, дожившие до наших дней или начавшие в позднесоветской литературе, перешли, конечно, к более фэнтезийным сюжетам и отказались от пафоса научной фантастики в пользу более мифологических сюжетов, мистических представлений.
В фантастике современной очень много альтернативной истории. То есть, а что было бы если бы не произошёл семнадцатый год? А что было бы если бы фашисты победили во Второй мировой войне? А что было бы если бы Советский Союз продолжал существовать и сейчас?
В.П.: Это, кстати, интересно, потому что для людей 50-х годов, для революционеров 20-х, 30-х, 40-х годов, для них не было такого вопроса: «а что было бы если не…?» Это были люди действия, да?
А.Ц.: Да. И поэтому, это тоже такое проявление консервативного, неоконсервативного сознания – постоянное обращение к альтернативной истории как способу сохранения неких социальных систем, в реальности не выживших. Этого в современной фантастике очень много. Очень много имперского пафоса. Конечно, такой сдвиг общества в сторону имперских, державных систем ценностей крайне сказался на массовой литературе и на таких не очень высоких жанрах. Потому что фантастика, на мой взгляд, стала за последние 20-30 лет гораздо менее высоким жанром, чем она была в позднесоветском обществе.