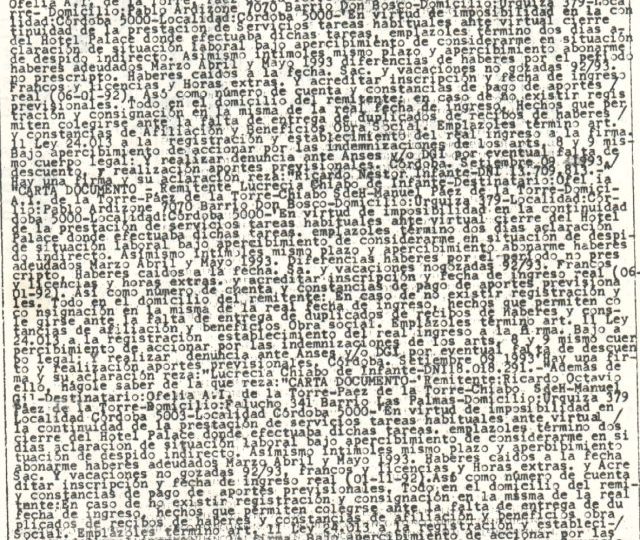Переводчик Сергей Морейно любезно предоставил нам рукопись своего нового эссе, отрывки из которого опубликованы в журнале «Дружба народов», № 12, 2013 г.
«Когда время разрушает отношения между людьми и мы принимаемся за горечь воспоминаний, порой кажется, что нам хотелось бы не столько вернуть самого человека, сколько еще раз пережить конкретные, связанные с ним ситуации в конкретных, окрашенных памятью о нем местах. Движимое и недвижимое меняются местами; человек распадется на комнаты с окнами на восток и на запад, цветущие лужайки, бары, мокрые пляжи в тумане. Текст остается местом».
Bo czyż pod stołem, który nas dzieli,
nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?
Bruno Schulz
Ведь за столом, нас разделившим,
мы все тайно держимся за руки, правда?
Бруно Шульц
Калитка
Откроем калитку. Я хочу пригласить вас в это – здесь возможно слово «странное», хотя и не обязательно – место. Мне кажется, эпитет «странное» люди добавляют отчасти потому, что имеют основания для опасений: место, в которое они зовут, может вовсе не показаться местом их гостям. Будь как будет; но, раз уж «место» вынесено в заглавие, условимся о его значении.
«Я живал в таких городах и домах этих городов, о которых можно открыто сказать – они не были местами», – это эстонский писатель и дипломат Яак Йорит. Зачем я сообщаю, что он дипломат? Лишь затем, чтобы подчеркнуть – он кое-что повидал и знает, о чем говорит. Впрочем, научиться отличать место от не места можно, не покидая собственной комнаты. Когда какая-то вещь (скажем, стул) стоит не на месте, это сразу бросается в глаза. Причин как минимум две – либо нарушена его связь с другими предметами (он стоит у двери, а не у стола и не у кровати), либо там, где он стоит, вообще нет смысла что-нибудь ставить. Если же сказать, что часть комнаты, в которой расположен стул, не является местом, обе причины сольются в одну. Ведь место бывает местом не только само по себе, зачастую его делает таковым окружение.
Местом может быть сама комната, дом, улица, город (а может, как уже было сказано, и не быть). Идя по лесу, случается выбрать место для привала: пригорок, поляну, ствол поваленного дерева. К местам ведут натоптанные тропинки – желая поесть или просто передохнуть, другие люди стремились именно в эти места, выделяя их среди прочих стволов и опушек. Интересно, что присутствие внутренней гармонии а-ля «мишки» Шишкина в них не обязательно. Ища ночлег, мы предпочтем менее «правильную» точку пейзажа более правильной, если к первой точке ведет более «правильная» дорога или тропа.
Вот не определение, но как бы словарная статья, суть квазитезисы, понимаемые интуитивно, с учетом определенного допуска, наличие которого как раз позволяет договариваться о минимальном общем лексиконе.
Место – это непременно часть чего-то большего, интуитивно ощущаемого как пространство.
Место имеет более или менее явно очерченные границы.
Место обладает рядом структурных особенностей, как внутренне присущих ему, так и связанных с человеческим восприятием содержащего его пространства, которые отличают место от других частей этого пространства, местами не являющихся.
Свойство быть местом связано с положением данного места относительно других мест пространства, а также его отношений с ними.
Дорожка
Дорожка ведет в сад. Сад, как известно, метафора – рая, потерянного и обретенного, лабиринта, романа. В романе Х. Кортасара «Игра в классики» один из членов Клуба Змеи, Грегоровиус, говорит Маге, подруге главного героя, что «Париж – это огромная метафора». Мое предложение, которое я хотел бы озвучить до того, как войти в дом, – рассматривать язык как пейзаж, – метафорой не является. Оно также не является ни сравнением, ни аналогией. Я назвал бы его родоуподоблением; и пусть мой лингвистический эквилибр никого не смущает – просто общность языка и пейзажа основана не на подобии сходства, а на подобии родства.
Мы живем в языке, мы разрушаем и создаем его, мы свободны от языка лишь тогда, когда освобождаемся от мыслей, то есть, медитируем: это похоже на сон, в течение которого мы выпадаем из пейзажа (попадая, правда, в иной – хотя и не вполне – пейзаж). Язык проникает всюду, наполняя нас; подобно пейзажу, каждый конкретный язык подразумевает другие и так же имеет пограничные области с ними.
Можно попробовать на вкус иные слова или сочетания слов – и разочароваться.
В заявленном уподоблении не получается заменить пейзаж на среду обитания, – кажется, она первой приходит на ум, – поскольку наша реакция на поведение остальных видов в языке гораздо более опосредована, нежели в природе. Грубо говоря, если планктон резко исчезнет, киты либо вымрут, либо мигрируют, в языке же для вытеснения из него особи или вида не достаточно уничтожения всех прочих его носителей.
Кстати, вот иллюстрация к вечной загадке: что значит быть носителем языка? Как первоклассный славист порою ляпнет нечто, выдающее его с головой и чего никогда не скажет даже полуграмотная бабка на рынке, так мальчик-чукча, лишенный карт, компаса и знания латинских названий флоры и фауны, в силу генетической предрасположенности не сделает ложного шага в тундре (а маленький шерп в – Гималаях), – в отличие от опытного, отлично снаряженного туриста.
Здесь я должен провести жирную черту – «один из тех, иже были с ним». Все, что я говорю или пишу, я делаю как практик языка. Признавая не только правомерность, но и необходимость перпендикулярного, филологического взгляда на язык, я-таки обозначу порог и вывешу над ним баннер: оставь надежду, всяк…
Борис Гаспаров, один из немногих тартусцев (ныне он – «колумбиец»), умевших думать и чувствовать одновременно, предлагал рассматривать язык как просто «среду», в которой мы «лингвистически существуем». Только тот, кто никогда не слышал ночного дыхания языка, подобного сапу лесного зверя меж штакетин тына сознания, может сказать: «Однако эта среда не существует вне нас как объективированная данность; она находится в нас самих, в нашем сознании, нашей памяти, изменяя свои очертания с каждым движением мысли, каждым проявлением нашей личности». Мое уважение к Б. Гаспарову глубоко, и я предположу – мы, наверное, говорим о разных языках.
Рассматривая метафору языка как природного ландшафта, Гаспаров приводит одно довольно странное замечание Барта из его апокалиптического труда и этим ограничивается; прилагательное «природный» косвенно подтверждает, что Гаспаров действительно имеет в виду метафору. Я, может быть, изобретаю велосипед, но ни Гугл, ни Яндекс не выдали точного соответствия на мой запрос «Язык Как Пейзаж».
Крыльцо
А текст – как место в нем.
Веранда
Я б разбивал стихи, как сад, – деревья настаивают на эпиграфе из Бориса Пастернака. «Достигнутого торжества/ Игра и мука –/ Натянутая тетива/ Тугого лука», – здесь Пастернак использует уже точно метафору почти эротического (собственно, почему – почти?) характера. Он ставит свое описание на грань, за которой натянутый автором лук текста встречает читателя и начинается их взаимодействие и взаимопроникновение.
Подобное событие обычно сопряжено с местом. Если отбросить метафоричность, все становится совершенно прозрачным: акт любви необходимо предполагает соответствующее место и даже, надо думать, вдохновляется им. Это может быть ванна, постель, пол, стол, подоконник, автомобиль, цветущий луг, в особых случаях – общественный туалет или лестничная клетка; кажется, только изнасилование не требует определенного места. Да и то – откуда нам знать? Собственно говоря, и время, каким мы его мыслим и чувствуем, нуждается в пространстве, поскольку время обязано что-то менять, иначе какое же оно время? А что ему еще изменять, если не пространство?
Процесс взаимодействия с текстом – путь, который не заканчивается нигде и начинается неизвестно когда: существует предчувствие текста, как и предчувствие любви. Каким должен быть текст? Из тысяч вариантов ответа один – хорошо известный – верен. Текст не должен быть никаким. Его вообще не должно быть.
Счастливые не наблюдают часов оттого, что им некуда спешить. Они уже на месте (в/месте). Читать им тоже не нужно – все книги мира они найдут друг у друга в глазах. Но язык не повернется назвать кисти их ресниц и палитры зрачков текстами. «Всё на свете есть текст», – это плод больного и несчастного воображения. А уж если действительно текст, то набранный белыми письменами по белому полотну…
За моим окном земля уходит вниз – это склон холма, который упирается в лес; за лесом поля, за полями – озеро, за озером – город, за городом – горы. Когда темнеет, вокруг озера довольно быстро возникает россыпь огней – и горит, а потом огоньки начинают понемногу выклевываться тьмой: я пишу это не для того, чтобы выпендриться, а чтобы показать – да, я знаю, какие приблизительные вещи говорю, однако других слов для того, чтобы выразить то, что я чувствую, у меня нет (ближе к утру она гаснет).
Когда время разрушает отношения между людьми и мы принимаемся за горечь воспоминаний, порой кажется, что нам хотелось бы не столько вернуть самого человека, сколько еще раз пережить конкретные, связанные с ним ситуации в конкретных, окрашенных памятью о нем местах. Движимое и недвижимое меняются местами; человек распадется на комнаты с окнами на восток и на запад, цветущие лужайки, бары, мокрые пляжи в тумане. Текст остается местом.
Гостиная
Прошлой зимой поэт Елена Фанайлова писала мне: «…Напряги в школе и дома [..] перемежаю чтением трилогии „Девушка с татуировкой дракона” Ларссона. Мечтаю подсадить на нее всех друзей. В частности понятно, почему рецепт мирового бестселлера не может быть один и почему русские не пишут мировых бестселлеров. И почему идея написать бестселлер по-русски вызывает вопросы».
Я ответил: первым, что пришло в голову – …«думаю, это потому, что герой блокбастера (и даже бестселлера) не должен быть мучим когнитивным диссонансом» (Лена согласилась: по-видимому, из вежливости)… – потом сообразил, что у канонических супергероев, д’Артаньяна или Уленшпигеля, с когнитивной картой тоже не все и не всегда было в порядке. И еще: появился целый ряд героев, мгновенно глянувшихся взрослым и детям – ведьмак Геральт Анджея Сапковского, чернокожий Шеф из мультсериала «Южный парк», Мышь из «Поллитровой мыши». Вот они-то уж точно на всю голову… и это делает их человечными, и мы их любим.
Той же зимой смотрю сериал «Ведьмак» по саге А. Сапковского, сериал явно провальный – а в то же время завораживающий. Смотрю впервые, поскольку сам пан Анджей в отношении этой экранизации употреблял слово «грустно». И вот: сериал низкобюджетный, и все-таки – слезы порой выступают на глазах. Как-то серьезно они всё делали – Геральт с Лютиком, Жебровский с Замаховским. Михал Жебровский так и сказал в одном из интервью о своей работе – rzetelnie (надежно, тщательно, добросовестно, серьезно). Так появилось слово – серьезный. Что, конечно, не ново – и, значит, опять пора пробовать.
Много и убедительно говорилось о значимости текста, правдивости автора, напряжении речи и/или силе артикуляции. Мы же предпримем обходной маневр по минному полю синонимов. Я бы не взялся (сегодня) придумать для слова «серьезный» что-то более исчерпывающе-синонимичное, чем «война». А самым серьезным в ней является ее протяженность, – хотя бы она продолжалась всего семь дней, – наличие отрезка времени, на котором никто не в силах изменить состояние войны на состояние мира.
Даже в лагере человек обладает индивидуальным шансом на переход к состоянию свободы. Он может надеяться на пересмотр приговора, на амнистию, на, в конце концов, обретение локальной свободы путем побега. На войне же никто не может ни личными усилиями, ни в результате какого-либо чуда отменить ее начало или ускорить наступление ее конца. В этом смысле она, так сказать, безусловна. И, пользуясь этим словом, как трамплином, чтобы оппозиция серьезный – несерьезный не путалась под ногами, мы взмываем к «идеальному», словно заповедь, понятию безусловного текста.
Безусловный текст (подчеркну: речь должна идти о тексте, а не об описываемой им ситуации) содержит все ключи к своему толкованию, может быть понят в любую эпоху, представителем любой культуры и – при желании – без знания контекста.
Жизнь дополняет искусство, делая текст безусловным. Когда Олег Золотов (прошло больше пяти лет со дня его смерти, но эпитет «гениальный», периодически прилагаемый к фамилии, не потускнел) в очередной раз написал, что, дескать, все равно, как сдохнуть – падая с виадука или в песке у «твоих сандалий», – я подумал (а, может быть, и донес эту мысль до него – кто ж помнит): пора уже как-то того, ну, либо перестать говорить об этом, либо…
И он выбрал «либо», переписав свои слова наново – отлив в золоте, выбив в камне; но вот странно: Пауль Целан, прыгнув в Сену, ничего не изменил в своих стихах, не прибавил и не убавил, поскольку претендовал на нечто большее, нежели просто голос. Ему хотелось быть хором, вопрошающим богов и оплакивающим героев, а хор потери бойца (хориста), как справедливо заметил М. Светлов, практически не замечает.
«Что ж, умереть пьяным у твоих сандалий – так же достойно/ как набив землею и зубами разверстый рот/ молча лететь с того же виадука».
Детская
В современной трагедии гибнет хор, а не герой, веско заметил Иосиф Бродский, поэтому вернемся к героям.
Центральным признаком войны можно считать узаконенность убийства – то есть, права и даже обязанности прекращать чужое время. Сознание, необходимым условием которого является непрерывность времени, переживает как бы клиническую смерть. Трудно представить, что оно ежесекундно отдает себе отчет в тотальной «прикосновенности» своего времени, функционируя при этом на прежнем, довоенном (и будущем – послевоенном) уровне. Однако в целом это так! Я вынужден предположить, что военное время течет как-то по-другому, представляя собой иную субстанцию (иначе воспринимаемую сознанием), нежели время мирное. При переходе от мира к войне и обратно время, стало быть, совершает скачок, причем не выражаемый какой-то конечной величиной, а бесконечный по сути (в математике такие скачки-разрывы называют сингулярными).
Война – это переход гуманитарного времени через точку сингулярности и перевод человеческого сознания через состояние смерти. Как человек и его сознание живут не только «сами в себе», но отражаясь в других людях, мыслях, глазах, зеркалах, так те или иные временные турбулентности являются отражениями какой-то огромной войны, длящейся где-то по ту сторону, почти вплотную к границам наших времен и сознаний.
Наверное, правы были те древние, которые считали, что всё на свете есть война. Возможно, как раз мир является исключительным состоянием в перманентном течении войны. Быть может, наше сиюминутное земное сознание придумано и создано (само возникло?) для того, чтобы служить индикатором сингулярности, предохранителем, сгорающим всякий раз, как время совершает свой смертельный прыжок. И, может, именно о помощи в прекращении этой бесконечной войны молят нас те, что по ту сторону стекла – хотя нам, в нашем бессилии, и кажется, что это мы взываем к ним из своего зазеркалья…
Тиль Уленшпигель, Д’Артаньян, Мышь убивают и смеются, смеются и убивают. Их сознание не разрушается и не зомбируется от многократных переходов через точки сингулярности, потому что трэш внутри них самих, similia similibus curantur («лечи подобное подобным»). Универсальность закона подобия раскрывается в высказываниях легендарного Лао-цзы:
Дай расшириться тому, что должно быть сжато.
Дай укрепиться тому, что предполагается ослабить.
Дай расцвести тому, чему предстоит быть уничтоженным.
Короче, наши друзья успели опохмелиться еще до того, как начали пить…
А реальный текст, чтобы жить во времени, должен содержать в себе время: нахоженное место, намоленный храм, насиженная баня. Безусловный текст – это место, которое одинаково понятно представителю любой эпохи, любой культуры и любого социального слоя. Такому месту в свою очередь адекватно-синонимичны: бомбоубежище, просто убежище, любое укрытие от дождя и солнца. К примеру, необслуживаемый приют в горах, где отсутствуют официальные правила пользования, зато есть явный и прозрачный неформальный кодекс: мусор должен быть утилизирован и/или унесен с собой; использованное топливо восполняется в большем объеме, чем было израсходовано и так далее.
Здесь не живут – пережидают. Для следующих/очередных посетителей оставляют спички, свечи, соль, по возможности съестное – что угодно, кроме денег; и, – если рассматривать время как эквивалент денег во всех отношениях между людьми, включая любовь, власть, войну и тому подобное, – точно так же в безусловном тексте не происходит передачи времени (но осуществляется синхронизация – малая смерть). Безусловный текст – это точка натурального обмена, горная хижина, где не в ходу деньги. Он вынесен за скобки времени; остров в океане времени.
Как-то уж вышло, что почти все близкие мне книги – о войне. «Игра в классики» – тоже про войну. Ее герой – Орасио; Мага – его война.
Лестница
Теория, в общем-то, кончилась; остальное – приложения.
Издавна волновавший меня вопрос – почему природа отдыхает на детях (в смысле литературы)? правда ли, что развитие идет по синусоиде? периоды расцвета сменяются периодами застоя и даже распада? – получает, кажется, вполне наглядное разрешение.
Интенсивное создание мест в пейзаже ведет к его постепенной трансформации. Если, например, построен целый город, вокруг него должна наблюдаться полоса отчуждения – карьеры, рудники, отвалы, вырубленный лес… следующим поколениям остается либо довольствоваться так называемой точечной застройкой, либо развивать новое поселение – расчистка местности, нулевые циклы, коммуникации, а это годы и годы (и масса уродливых сооружений).
Блаженны строящие на пустом месте. На Сарматской равнине, выглаженной катком двух мировых и изрытой языковыми взрывами, Иоганнес Бобровский использует для своих построек только то, что дает сама равнина. По сравнению с зодчеством того же Целана они выглядят скромно.
Научи говорить, трава,
научи мертвым быть и слушать,
долго, и говорить, камень,
выучи оставаться, вода, обо
мне, и ты, ветер, да, не спрашивая.
Равнина была для него всем – судьбой, словарем, ландшафтом, идеей-фикс. Редкий случай почти полного отождествления двух пейзажей – жизни и языка. Поэтому факторы эрозии – будь то война или пламенеющий модерн – проявляются одновременно в обоих. Страна теней: И. Бобровский и П. Целан синхронно, но в разных позициях месили ее глину, и можно видеть, как, пока Бобровский все еще скитался по ее «расквашенным дорогам», строя некие подобия скитов и келий, где то ли прятался, то ли оставался один на один с собственной виной, Целан уже раскидывал на ней шатер, в котором переживал и изживал вину мира.
Принято считать, что Целан творил с нуля на голой земле – из вулканической лавы, каменного угля и доисторических хвощей. В сюжетной, бытовой проекции оно, может, и верно, однако в языке Целан брал все, чем богаты долины Хеврона: молоко и мед, лавр и кедр, золото и мягкие ткани. Он моментально огораживает и метит свою территорию. Как заметил Янис Добкевич, названия стихов Целана, выписанные в хронологическом порядке, образуют стихотворение, этакое мета-место:
…Halbe Nacht/ Dein Haar überm Meer/ Espenbaum, dein Laub blickt weiß ins Dunkel/ Aschenkraut/ Das Geheimnis der Farne/ Der Sand aus den Urnen/ Die Letzte Fahne/ Das Gastmahl/ Dunkles Aug im September/ [..]/ Die Jahre von dir zu mir/ Lob der Ferne/ Das Ganze Leben/ Spät und Tief/ Corona…
Целан столь плотно работает с обживаемыми им окрестностями, что невольно деформирует локальный пейзаж; возникает языковая усталость – и уже нелишним кажется вопрос: Как писать после Целана?
O Lehm und Leben, о глина и жизнь, – переводит Целан сакраментальное мандельштамовское «О, глиняная жизнь!», даже не подозревая: второе словосочетание можно было вполне услышать в тряском вагонном тамбуре, первое – в случае российских реалий – разве что в психиатрической клинике (ну или в мастерской Веры Мухиной). Глина Целана – это не глина Мандельштама и уж тем более не глина Бобровского. И, конечно же, не знаменитая глина Бродского.
Балкон
Судя по многим фактам, включая историю Вавилона, язык изначально служил инструментом коммуникации (если такой уверенности нет, можно спокойно переходить к следующему помещению). Язык дан нам для диалога, не для монолога. Монолог, рефлексия, процессы сознания – все это должно было бы осуществляться при помощи других средств: цвета, звука, образа и даже чего-то более высокого и непосредственного. Но оказалось, что мыслить словами – проще и удобней.
Слова вытесняли из сферы сознания остальные инструменты – в подсознание или куда там. Вытесняемые, они пытались занять свое место в диалогах, лишая их коммуникативной прагматики. Сам язык становился все более субъективным, терял общую понятийную базу (безусловный словарь), окрашивался во всё более теплые или холодные тона. Он не только перенимал функции других знаковых и сигнальных систем, но и превращался в диспетчера этики/эстетики.
Нами, можно сказать, выпестован монстр, написан самодовлеющий пейзаж, который сошел с холста и зажил своей жизнью, постепенно растворяя нас в себе – вместе с холстом, подрамником и кистями. Коммуникация затруднена (вернее, упрощена – как в красивых фильмах Антониони, когда герои занимаются сексом, если им больше нечего сказать друг другу). Сами языки не дают нам возможности договориться, они уже содержат в себе взаимооталкивание и взаимоотрицание, через которые мы не в силах переступить. Интертекст, в котором мы живем, исключает интерсознание – он ограничивается называнием мест, затрудняя проникновение в них. Зато диалог, хоть и напоминает все чаще два спаренных монолога, делается настолько эмоциональным, что возникает возможность установить контакт с «удаленным собеседником», например, с книгой.
В высказывание приходит герой. Дитя языковой условности, литература, утверждает разницу между сообщением и посылом (информацией и смыслом), кормясь за счет нее, как продавец за счет маржи. Мы говорим о языке книги как о чем-то безусловном, то есть, диалогичном, и такой язык действительно появляется в общении героя с автором, в то время как обращение автора к читателю остается по сути монологом, а безусловность достигается за счет включения в высказывание всех кодов для его дешифровки. Теперь не язык служит – а ему. Язык превращается в (бесконечную) пытку; пытает, не освобождая.
О служении языку говорят, как правило, те поэты, что не вполне чувствуют свою сопряженность со временем. Бродский, У. Берзиньш, У. Х. Оден… К Берзиньшу, правда, с течением лет приходит-таки понимание того, что в служении языку и поклонении тельцу есть нечто противоестественное. И он декларирует смену сюзерена:
Вот, вновь скажу – твой Раб тобой помазан, чтоб в гуще, что Тобой сотворена, я нес Тебя народам! Я слушаю, Господь – я тут, я здесь, я пред Тобой!
Эй, так ведите ж их ко мне опять, я шелковые шеи глажу, и бедра резвые! О, жаркий пот! А после – пусть свершится, чему пора – как мог, так и служил тебе, Господь! (2012).
Спальня
Этот год оказался знаменательным во всех смыслах для двух самых известных латышских поэтов современности: Ояра Вациетиса (1933–1983) и Иманта Зиедониса (1933–2013). Конституции их несхожи, а масштабы кажутся мне несопоставимыми – причем судьба их текстов отражает различие масштабов с точностью до наоборот. Зиедонис тонким, но равномерным культурным слоем осел на коллективном бессознательном латышей, Вациетис последовательно отторгается и выдавливается из контекста.
Видимо, диалогичный Вациетис в период всеобщей мутации от диалога к монологу излучает некоторую опасность; как известно, в моменты опасности народное сознание легко консолидируется – в первую очередь в вопросах отторжения. Похоже, что на техническом уровне это еще и своеобразная месть языковых надстроек: за то, что Вациетис в определенном смысле подавлял своих современников, первым решая те задачи, которые остальные только ставили перед собой.
Запрограммированный на физиологическое – то есть, геофизическое – выживание, латышский язык немного устал. Если рассматривать язык как пейзаж, то очищение языка – это не совсем субботник по очистке леса. Язык очищается и возобновляется лишь вместе с сознаниями сопорождающих его людей, а те порядком изношены и не спешат восстанавливаться. На сегодняшний слух/вкус Вациетис чересчур открыт, его поэтическая точность обернулась излишней прямотой, а безошибочный ритм неподобающе естественен. «Подобная история была в Вавилоне», – спел бы Борис Гребенщиков.
Когда в 1952 году на собрании знаменитой «Группы 47» (самоназвание участников писательских встреч 1947–67 под руководством Х. В. Рихтера) в городке Ниндорф Пауль Целан читал «Фугу смерти» и «Песнь в пустыне», его, согласно ряду свидетельств, грубо высмеяли, а манеру чтения сравнили с пением раввина в синагоге, а заодно с речью Йозефа Геббельса.
Понятно, что долгое время это трактовалось исключительно как отвлеченная монструозность (gedankliche Monstrosität), но сегодня мы можем позволить себе вычленить вещественную компоненту события. Мало того, что стихи Целана казались пришедшими из другого ландшафта, из страны снов в край сплошной вырубки (Kahlschlag). Патетическая риторика жертвы легко может быть соотнесена с риторикой палача – особенно, если слушатели в глубине души мнят себя виновными: ведь почти все они были солдатами. «Его голос звучал для меня избыточно ярко», – записал в дневнике Рихтер.
К тому же это было первое чтение Целана в Германии. Присутствующим был впервые предложен своеобразный трип в экзотические русско-французско-румынско-еврейские места, расположенные не где-нибудь, а в немецкоязычной глубинке. Процесс эстетической оценки места в родном и неродном пейзаже носит черты антропоцентризма. Что прощаем мы чужому городу такого, чего не прощаем своему – и наоборот? Что извиняем в близких людях, не терпя в далеких? В первую очередь от близкого города/человека ждем серьезного отношения к себе – и на фоне этого внимания терпим самые дикие выходки. Родному тексту не прощаем слюней, фамильярности, неискренности, ложных умствований (оттого Ахматова до сих пор королева в изгнании).
В 1996 году Херта Мюллер, сама будучи родом из румынского Баната, объясняла: в Ниндорфе Целана осудили «немецкие невежды, из коих многие все еще пользовались языком ландскнехтов. Ужасно, что они совсем ничего не помыслили о жизни смотревшего им в глаза автора. Далее, они никогда не слыхали о вековой еврейской, русской, румынской традиции поэтического чтения на основе ритмичного распева, пронизывающего все тело». Но речь-то шла о немецком пейзаже!
Туриста, который в путешествии по родной стране забрался в какой-нибудь дикий анклав, раздражает отсутствие кафе и туалетов, торговля безвкусными сувенирами и насекомые в гостинице – то, что в чужом краю первозданной природы может скорее умилять. Полвека назад немецкое стихотворение, в румынском переводе названное «Танго смерти», не могло быть воспринято иначе, как издевательство. Со временем территория, занятая Целаном, практически получила суверенитет, и каждый проникающий в глубь нее заранее знал/чувствовал, что его там ожидает.
…История имела продолжение в воссоединенной Германии: стена прошла не только по пескам Бранденбурга, но и по отношению немцев к слову. Слово как дополнительная степень свободы или, напротив, несвободы; добавленная или отнятая размерность – упоительное слово с Востока, слово-фетиш, слово-самоцель против тихого проговаривания, небрежного броска, незаметного паса трезвого, прагматичного слова с Запада.
Кабинет
На путях обретения популярности теми или иными текстами нет ничего особенного по сравнению с тем, как обретают посетителей те или иные рестораны, клубы, театры и многое другое в больших городах, естественным – то есть, хаотическим – образом застроенных. Слава вообще трудно приходит к поэтам.
Конечно, способ подачи и самоотдачи, но – я уверен – мироздание тщательно модерирует процесс ее прихода. Среди широко прославленных: О. Мандельштам, П. Целан. Среди нобелевских лауреатов: И. Бродский, Ч. Милош; недавно присоединился Т. Транстремер. Галерея имен представляет целый спектр реакций на одновременную принадлежность творца двум мирам – «видимому-ощущаемому» и «параллельному-перпендикулярному» (подземному, запредельному).
Близость полярного мира, страх перед бушующим в нем пламенем по-разному действовали на поэтов. Мандельштам входит (спускается?) в тот, другой мир и после этого еще какое-то время функционирует. Милош, осязая его, как лозоходец чувствует воду, развешивает повсюду таблички «Осторожно, вход (выход!) воспрещен». Тумас Транстремер не только не ужасается, приняв сигнал извне, но верит в потустороннее присутствие, как в средство восстановления и удержания баланса. Он ожидает перегруппировки живых и мертвых. «Leur parole défaite/ Étant le port de la déchirure des feuilles, où la nuit vient, – Ив Бонфуа. – Зияние их слов/ это гавань в разорванных листьях, куда вошла ночь».
Вациетис – насколько мог себе позволить народный поэт советской социалистической республики – был ближе всего к позиции Транстремера (и неспроста первой страной, куда тот приехал после получения премии, стала Латвия). Очень субъективное понятие – поэт, сопряженный со временем. Сопряженность – это не только и не столько партнерство, симбиоз, любовь или борьба. Это как лошадь и телега, автомобиль и дорога, Аркадий и Борис Стругацкие. Дорога обретает назначение, когда по ней едут машины; время обретает свой гуманитарный смысл лишь при с сопряжении человеческим существом.
Для сопряжения необходимо некоторое формальное подобие – к примеру, нельзя сопрячь двигатель с лотосом. Но можно мост или берега – с потоком. Сопряженный со временем художник принимает участие в процессах мироздания (берега и мост участвуют в течении воды, а кристалл, фонтан или зеркало – всего-навсего отражают; они части, не участники). Мироздание говорит устами (посредством) сопряженного со временем художника. Возможно, Михаил Кузмин звучал тоньше, парадоксальней Осипа Мандельштама, но тогда мироздание говорило Мандельштамом и хотело, чтобы его слушали.
Основной вывод из чтения стихов Вациетиса: мироздание не сошло с ума. Ясное дело, такого художника оно будет слегка стыдиться, призывая на службу от случая к случаю. Тем более, Вациетис нарушает принцип соответствия. Механика Эйнштейна при малых скоростях становится механикой Ньютона, а Вациетис, возвращаясь на землю из космоса, отказывается редуцировать высшую правду, приспосабливая ее к земной тяжести: «Но глаза видят,/ мысли бегут,/ планета вращается,/ и нашей походке/ пока еще присуща легкость косули».
Библиотека
Причину, по которой Ньютон задумывался о всемирном тяготении, думаю, несложно угадать. Его, вероятно, угнетало то, что люди (разумные, уважаемые) безропотно принимали тот факт, что земля притягивает к себе яблоко, не задумываясь, а чем же это земля так хороша, что именно она притягивает? Почему не притягивают Луна, Солнце, Вестминстерский собор, ньютонова голова (в конце концов, именно она притянула к себе решающее яблоко)?
Хотя Ньютон и сказал, что «видел далеко, ибо стоял на плечах гигантов», его деятельность сложно рассматривать в контексте деятельности других ученых той эпохи. Точно так же и Вациетиса не стоит пытаться втиснуть в поэтический контекст тех лет. Двадцать лет назад я не случайно назвал его «понимателем»: он пробовал понять и взвесить на внутренних весах то, что коллеги по цеху (Зиедонис, Чаклайс, Петерс) оценивали интуитивно: свободу и коммунизм, веру и предательство, Латвию и мир, отливы и приливы… Пускай Вациетиса и подпитывали их душевные порывы и профессиональные достижения, занимался-то он вопросами, которые они для себя решили раз и навсегда.
Вместо того, чтобы – подобно И. Зиедонису – «войти в себя», он уходит: «Продолжение рода/ предполагает уход/ даже от себя самого». Во всей латышской поэзии второй половины XX века никто не жаждал понять с такой силой, как Вациетис. Проекция, в какой он видел мир, была абсолютно открыта – все непонятно, все сметано на живую нитку, и каждое стихотворение становилось актом понимания и утверждения понятого.
Покажи мне сторону,
где закат живет.
Наглухо заделаю ее –
мне бы не хотелось,
чтобы солнце село.
Мне кажется, было бы интересно сравнить Вациетиса с Бродским. Не в смысле кто кого – это безнадежно, они порождения различных стихий, а в смысле – как становятся поэтами, востребованными в такой мере, как Вациетис и Бродский. Хотя, наверное, Вациетис – на время – был по-своему даже более востребован. В Латвии его чтил каждый, кто умел читать.
Бродского в России – даже на пике интереса к нему – едва ли.
Но неважно.
Осознанная лексическая и интонационная нечистота стихов Бродского («…грустная строчка. И – чистая строчка. Бродскому такую нипочем не написать. А Горшков – может. Или Коля Рубцов», – пишет Константин К. Кузьминский в «Антологии новейшей русской поэзии у Голубой лагуны») – так вот, нечистота наиболее значительных стихов Бродского искушает читателя, предлагая понять, откуда вдруг при этой нечистоте возникает подобная значительность.
Ну и обнаруживаешь, что логика тут обратная: сама значительность поэтики Бродского – уже на уровне замысла – такого рода, что предполагает и даже поощряет невыстроенность и небрежность в деталях. Она линейна: строчки и строфы можно переставлять блоками, менять местами. Течение стиха последовательно, оно практически лишено параллелизмов. Бродский весь сознательно плоский – приземленный – и это, пожалуй, комплимент в его собственном духе: «плоская (пылящаяся) вещь» синонимична грандиозности (империи, континента).
Тексты Бродского предельно точны по посылу. Они почти всегда безусловны. После смерти Сталина Бродский первым и, пожалуй, последним среди всеобщей текстуальной бесприютности задумался о том, что надо бы в выгоревшем пейзаже русского языка обозначить достаточно большое место, где будет если не хорошо, то хотя бы по-другому, не так, как раньше. Избежать русско-русской войны между официальным и неподцензурным и дать поэзию определенного уровня если не всем, то многим.
Еще раз: блочность, линейность, ошеломляющая действенность, поточность («длинные стихи» Бродского), как бы еретическая новизна (а на самом деле довольно грубое совлечение с поэзии жреческих одеяний) – все это неожиданным образом наводит на мысль о хрущевских пятиэтажках. И, опять-таки, это комплимент. Пятиэтажки давали взрослым личное пространство, возвращали – пускай частично – чувство собственного достоинства. Детям они предлагали простые прямоугольные дворы, в которых можно было играть в футбол и хоккей, а кое-где и в пинг-понг. Так уж вышло, что петроградский юноша, бунтарь, эстет, вкусно куривший с друзьями белые сигареты, оказался архитектором энергичной застройки.
…А Вациетису был дан другой путь – он играл музыку, понятную всем, от шофера до академика. Музыку, родившуюся от безысходности и надежды; у тех же родителей, что и хрущобы, легкие спичечные коробки, понемногу кочующие к летейским берегам. Джаз же, – сказал бы Хемингуэй, – это moveable feast. «Праздник, который всегда с тобой!»
Кухня
Многие тексты, уже умершие, а то никогда и не жившие полноценной жизнью в родной культуре, живут и, возможно, будут продолжать свое существование в других культурах. Прекрасно чувствуют себя в эмиграции Анна Ахматова и доктор Живаго. Значительно лучше, чем на родине, прижились на русской почве три мушкетера и легенда о Тиле Уленшпигеле.
Если текст – это место в пейзаже, то процесс его перевода можно уподобить переносу объекта из пейзажа в пейзаж. Вот здесь уже можно воспользоваться аналогиями и сравнениями. Можно поговорить о Диснейленде в Париже, о разбиваемых на континенте английских парках или зодчестве Бартоломео Франческо Растрелли.
Место из одного пейзажа может быть сконструировано в другом пейзаже множеством способов. Особенности национального ландшафта могут так пропитать место, что результат переноса воссоздаст все реплики этих особенностей. Прямой и переносный смыслы, ментальность, просодия, лексика, игра слов – все переводимо. Не вредят даже отличия местных ресурсов (стройматериалов): клей вместо цемента, круглые кирпичи вместо квадратных. Эйфелева башня может быть свободно повторена в пустыне; окружающая (языковая) среда лишь подчеркнет ее неповторимый силуэт.
С настоящими сложностями сталкиваешься на третьем уровне, в зоне сил не всегда понятной природы. Следы верхнего и нижнего миров, магнитные поля, подземные жилы, шаманские круги, курганы, особый свет, особый состав воздуха, особый ветер (как в случае с Пушкиным, когда он и есть тот ветер, пронизывающий насквозь целый пейзаж). При переносе дома, одно крыло которого располагалось над подземной жилой, эффект, вызываемый ею, будет наверняка утрачен – угадать сходу такую жилу невозможно.
И отлично! Эффект подземных жил, как правило, негативен – в поставленной над жилой кровати плохо спишь, по утрам болит голова. В переводе жила не сохранится; тошнотворная книжка может пройти очищение переводом: «не место» станет местом. Американская забегаловка Макдоналдс в России и Латвии превращается в знаковое заведение. Русский ресторан в Вильнюсе – развесистая клюква, но, тем не менее, место – в отличие от большинства российских русских ресторанов.
Однажды Вальтер Беньямин, формулируя некую о мысль переводе на один язык как на все языки сразу, написал чудовищный абзац (пять предложений), о который десятки переводчиков обломали зубы. Беньямин был человеком гениальных озарений, весьма неловко связывавшим на письме результаты отдельных вспышек. Глубокий смысл в абзаце имеет ровно одно, четвертое предложение: «Ведь каждый перевод конкретного произведения, выполненный с позиций, определяемых состоянием языка в конкретный момент времени, представляет собой в отношении любого конкретного аспекта своего содержания перевод на все прочие языки».
Зато эта мысль – по крайней мере, в отношении определенного аспекта своего содержания – проста и понятна.
Все строительные чертежи делятся на эскизные, технические и рабочие чертежи. Эскизные чертежи составляются при проектировании зданий для решения вопросов в общем виде без уточнения конструкции зданий. Технические чертежи составляются для уточнения конструкций проектируемого здания. Рабочие чертежи составляются для непосредственного выполнения по ним деталей спроектированного здания.
Когда место просто существует в качестве оригинала в изначальном пейзаже, составление эскизных чертежей, а также рабочих видимых деталей не представляет трудностей. Для составления рабочих чертежей конструкцию следует разобрать, попутно производя полевое трассирование, измерение, закрепление, разбивку, нивелирование, съемку… После того, как место воссоздано в другом пейзаже, на руках остаются его технические чертежи и инструкции по сборке – полная, так сказать, документация.
«Итак, перевод пересаживает оригинал в некую языковую сферу, безвыходную (ирония!) по крайней мере в том смысле, что из нее он уже никаким переложением не может быть перемещен…»
Это пятое предложение; первое банально, второе и третье – ошибочны.
Душ
Главное, не забыть при пересадке, какая именно деталь пересаживается в каждый конкретный момент. Когда достойный переводчик говорит, что работает «по слуху», он, очевидно, имеет в виду не только слух в широком смысле, но и внутреннее зрение, позволяющее, подобно морскому хронометру, определять положение любой шестеренки в конструкции, роли любой ее части в целом здании (месте) текста.
Особенному риску хирургия перевода подвергает текст при наличии в нем неологизмов. Помнится, в студенческих переводах Цветаевой на латышский язык предметом особой гордости начинающих переводчиков были механически, по формальным семантическим признакам составленные неологизмы, «болтающиеся» в каркасе перевода, как окна на сорванных петлях. Знаменитое Huhediblu Пауля Целана, воскрешающее в памяти голубиное Rucke di guh! Blut ist im Schuh из «Золушки» братьев Гримм, в переводе Анны Глазовой превратилось в «Татетуте» – чистая Ахматова, чьи стихи, как известно, Целан на дух не переносил (да и трудно вообразить что-либо более далекое от целановского кукареку, чем это старушечье татетуте).
Кладовка
Двуязычное издание «Поэмы о хлебе» Иманта Зиедониса, переводческий подвиг Людмилы Азаровой-Вациете, вышло три года спустя после смерти ее мужа О. Вациетиса. Viddivvārpā / Колос-двойчатка. Мало кто из русских переводчиков, столкнувшись с текстами, где основополагающие мифы смешены практически в равных долях – «Die Blechtrommel» («Жестяной барабан») кашубского немца Гюнтера Грасса или «Quo Vadis» («Камо грядеши») влюбленного в античность католика Хенрика Сенкевича – сумел столь верно передать сплетение дыханий, слышимых одно сквозь другое (здесь: смесь язычества и лютеранства в рамках православной, в принципе-то, просодии).
Людмиле Азаровой явно помогло осознание (хотя бы подспудное) границ той области в пейзаже латышского языка, в которой располагается поэма Зиедониса. Впрочем, автор сам дает ключ для декодирования текста, и ключ этот – дайны-эпиграфы к главкам поэмы. Веками слагавшиеся дайны, не связанные единым сюжетом песни из одного или нескольких узкий четверостиший, общим числом 200 с лишним тысяч, описывают жизнь латыша от зачатия до смерти. На сегодняшний день это абстрактные идеальные тексты (их изредка поют, по поводу и без повода цитируют, часто в рекламе алкоголя). Зиедонис привычно дидактичен, однако в декларативную орнаментальность, в песенный строй (строй дайн), врывается волна иронии.
Таким образом моделируется пейзаж, также идеальный: песня из ниоткуда, сосны не на порубку, дорога не для ног и колес. И всюду в окрестностях поэмы присутствуют дайны. Они связывают между собой места и целые местности языка, возникая в связи со всеми значительными явлениями в языковом пейзаже. Получается, что дайны – это система навигации, в силу чего возникает определенная амбивалентность текста: дидактика, опирающаяся на идеальные указатели.
Сквозной образ Юмиса, божка плодородия, покровителя двойных желтков в яйце, двойных ядер в орехе – двуликого, двойственного, сумеречного – выполнен серой краской. Серый цвет – цвет амбивалентного равновесия: серебро, ртуть (живое серебро), плесень. Он крадется через весь текст, обозначая нейтральную зону, полосу инфильтрации, она же – полоса отчуждения (пашни от целины), – предсказывая разрыв связи с землей, уже почти состоявшийся в современной Латвии.
Имитируя эту систему амбивалентных идеальных указателей, Азарова как будто расставляет на своем полотне православные церкви, по большей части недействующие – восьмидесятые! – создавая белые пятна (стены церквей и монастырей) в пестром пейзаже русского языка. «Там, – как мы знаем от Мандельштама, – щавель, там вымя птичье,/ Хвой павлинья кутерьма,/ Ротозейство и величье/ И скорлупчатая тьма». Вместо канонического поднятия градуса при переводе Азарова его опускает. И нарочитое замораживание оригинала приводит к спокойной прохладной точности.
| Оригинал | Буквальный перевод | Правильный перевод |
| Maize ir kā pasaule –apakšā zemes garoza,pāri – debesu garoza,pa vidu – mīkstums – dzīve.
Kad dzīve nepareizi iejaukta, tā saplok un garoza atliec.
Atlec debesu garoza. Starp tevi un debesīm paliek tukšums.
Un tu paliec bez debesīm. |
Хлеб – он как мир:под ним кора земная,над – корка небесная,в середке – мякиш – жизнь.
Неправильно жизнь замешаешь, она оседает и корка отстает.
Отстает корка неба. Меж тобою и небом остается пробел.
И ты остаешься без неба. |
Хлеб сотворен, как мир –снизу земная кора,сверху небесная корка,в середине мякиш – жизнь.
Жизнь, неумехой замешанная, глядишь, и осела, отстала корка.
Отстала небесная корка. Между тобой и небом пусто.
И ты остаешься без неба. |
Дополнительные паузы в пейзаже, состоящем из одних интонаций – это освещение, атмосфера, осадки; краткие и длительные движения пейзажа. Русские интонации – суть обстоятельства (места и действия). У языка мощная переменная составляющая. Он ведь принадлежит народу неупорядоченному и анархическому, абсолютно «без царя в голове», и чем дальше, тем хуже. А вот поди ж ты – остается при этом точным инструментом литературного созидания. Что означает, по видимому, следующее: лабильная составляющая языка, складывающаяся из быстроменяющихся уличных интонаций, профессионального сленга, лексики сетевого общения, ведущегося, сказал бы Осип Мандельштам, «на языке трамвайных перебранок,/ В котором нет ни смысла, ни аза: ‘такой-сякой’», играет в современном русском едва ли не определяющую роль.
Наилучшая модель пейзажа русского – Зона из «Пикника на обочине» А. и Б. Стругацких, а читатель/переводчик русского текста – это сталкер, идущий в нее за «хабаром».
Туалет
Пока рассада оригинальных текстов томится в парниках, русская, да и латышская литературы обрекаемы своими языками на самоизоляцию.
«Ты ушла рано утром чуть позже шести», – на латышском это просто констатация факта раннего ухода, а по-русски трагедия. Слишком часто идол русского слова был осыпаем обильными жертвоприношениями; вместо божества мы вскормили демона. И вот уже рок-певец Чиж заменяет людям моего круга и образа жизни Тумаса Транстремера, потому что виртуозно владеет русским языком, в котором явно присутствует ад.
Могучий ветер Пушкина и бури Шекспира проносятся над русским и английским ландшафтами, но пушкинских порывов никто, кроме априорно русскоязычных, не замечает. Пейзаж русского языка в целом пугает того, кто хочет посетить его избранные места. И, очень может быть, слависты-русофилы ходят по нему, как по Шервудскому лесу.
Остается ждать иных времен, питая надежды и вынашивая (высиживая) мысли в дальнем и темном углу языковых владений. Место уединения, садовый домик… неплохо. Так Микеланджело Антониони в своих очень красивых фильмах превращает в места самые заурядные части ландшафта, помещая в них маленькие фигурки людей почти в статике – то есть, синхронизованные с этими фрагментами местности и, значит, подтверждающие их статус места.
Сарай
В ходе перевода, который удается делать почти дословно, трудно выполнить отдельные импровизации без, так сказать, «разгона», поэтому места «свободного полета» требуют небольших смещений от оригинала на протяжении всего текста (или его достаточного фрагмента). В случае Осипа Мандельштама – перевода стихов Мандельштама – близкий к тексту перевод не то чтобы не имеет смысла, но практически невозможен, поскольку моментально приводит к семантическому бреду.
Ключом к пониманию этой проблемы будет знаменитая цитата из «Четвертой прозы» (1930), которую не приводил, рано или поздно, лишь ленивый – из тех, кто писал о Мандельштаме:
«Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда.
[..] У меня нет рукописей, нет записных книжек, архивов. У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голосу, а вокруг густопсовая сволочь пишет. Какой я к черту писатель! Пошли вон, дураки!»
В ахматовских «Листках из дневника», таких карамельно-жеманных, что – зная, что она и в самом деле пережила все то, о чем пишет – поражаешься кривизне ее таланта, присутствуют и подробности, которым безусловно веришь: «В последний раз я видела Мандельштама осенью 1937 года. Они (он и Надя) приехали в Ленинград дня на два. Время было апокалипсическое. Беда ходила по пятам за всеми нами. У Мандельштамов не было денег. Жить им было уже совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами. Я пришла, чтобы повидаться с ними, не помню куда. Все было как в страшном сне», – и точные наблюдения: «Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен».
Значит: с голоса – ворованный воздух.
Не требуется больших усилий, чтобы понять – воздух означает «время». Потому что именно время «выкачивается» (модель колодца) или «спускается» (модель ванны) из тоталитарно организованного общества; как раз времени не хватает настолько, что приходится ловить его ртом. И воровать, причем всеми доступным способами, в том числе написанием стихов, нужно ни что иное, как время (относительно задолго до воронежских стихов Мандельштам прощается с ним, символически хоронит в снежном «сугробе пшеничном» время, перед сном смерти как бы принявшее человеческое воплощение).
А с голоса – ну нет у Мандельштама иного пейзажа, кроме пейзажа языка. Только если в случае И. Бобровского (Сарматская) равнина объемлет языковой пейзаж, пропитывая его собой, растворяя в себе и порождая в нем слова-кубики Regengesträuch (дождеросль) или Regensegel (дождепарус), то единый пейзаж Мандельштама образуется путем равноправного объединения языкового и жизненного, при этом ведущей остается стихия языка: уравниваются небо и нёбо, губы и глина.
В этом пейзаже недостаток воздуха, читающийся как отсутствие времени, означает бесконечную медленность всего происходящего, как во сне, когда нельзя убежать от преследователей, – и только возможность полета компенсирует тяжесть безвременья и сообщает легкость, «широту, глубокое дыхание» – в горних слоях атмосферы.
Пространство стихов Осипа Мандельштама имеет черты ландшафта сновидения. Сам Мандельштам не спит, он бодрствует, он «только что всего переогромлен», однако – уснуло время (в языке), и оттого пейзаж языка весь сонный.
И, как в «Анне Карениной» счастливые семьи похожи друг на друга, а несчастливые несчастны каждая по-своему (повода не доверять наблюдениям Льва Николаевича Толстого в области семейной жизни вроде бы нет), так системы с нормальным временным метаболизмом более-менее подобны друг другу, а с отсутствующим – не совсем. Так что, как ни перекладывай Мандельштама из пейзажа в пейзаж, воссоздать уникальную деформацию круговорота времени все равно не удастся.
Единственное спасение – имитация: медленная камера, крупные планы, упор на основные детали конструкций. В стихотворении 1931 года, известном под домашним названием «Волк», опорной строкой традиционно считается последняя.
За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья и чести своей.
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.
Уведи меня в ночь, где течет Енисей,
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.
По-моему, для Мандельштама это было бы слишком просто. В мире, где почти нет времени, причинно-следственные связи тем не менее сохраняются, правда, до следствий соответствующих причин дело не доходит. Поэтому формулировка причин в принципе важнее описания следствий. И таких причин в стихотворении две. Во-первых, за что? – За гремучую доблесть…; во-вторых, с какой целью? – Чтоб не видеть ни труса… Последняя же строка связывает эти причины между собой с помощью некого условного следствия, смерти от руки равного.
Здесь пора отдать себе отчет в том, что пейзаж языка, как и любой другой пейзаж, не постоянен. При переносе наиболее здравым представляется учет/использование сразу трех вещей: текста, его места тогда (в современном ему пейзаже) и его места сейчас (в сегодняшнем языке). Очень трудно переводить Лермонтова, место которого сегодня незавидно. Он «не вибрирует» среди нас (совершенно не заслужено ни им, ни нами); остается надеяться, что он увеличит свое присутствие в будущем. Мандельштам же определенно совершил вылазки в язык более доблестных времен и даже прославлял его, о чем прямо высказывается в самом начале стихотворения.
(«Хвала тому, кто потерял себя!/ Хвала тебе, мой быт, лишенный быта!/ Хвала тебе, благословенный тензор,/ Хвала тебе, иных времен язык!/ Сто лет пройдет – нам не понять его…» – через тридцать лет продолжит линию Арс. Тарковский).
Но в двух строках: «Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, / Ни кровавых костей в колесе», – гораздо меньше линейного; с ними ни справились (попросту не поняли) ни внимательные к Мандельштаму, так или иначе сделавшие его культовой фигурой собственных культур, Пауль Целан и Ежи Помяновский, ни ни к кому не внимательный, хотя и знавший русский не понаслышке Владимир Набоков. Их переводы широко известны:
Dass dem Aug, das Kleinmut und Jauche geschaut…
Byle tchórza nie widzieć i brudu nie widzieć…
So that I may not see the coward, the bit of soft muck…
Все три апеллируют к слову «трус» в значении «боязливый» – хотя Набоков и указывает в комментарии, что у труса есть иное, омонимичное значение землетрясения, – но не это важно. Главная ошибка переводчиков – при таком патетическом накале стиха не пытаться найти объяснения предположительному жесту трусости, желанию спрятаться шапкой в рукав, чтобы не видеть того же труса. Как так?
А он не хочет видеть «труса» – тотального потрясения, потому что не желает его последствий: связанных двойным «ни» в качестве альтернативного «или» хлипкой грязцы и кровавых костей. Ни сдавшихся и сломленных, ни восставших и раздавленных. И не о бегстве и не о страхе речь, но об отрицании, сопровождаемом просьбой взять с собой – туда, где течет река (Енисей) времени, откуда можно ударить! Пусть даже ударит другой: вызов и готовность отдать жизнь «равному» – тому, кто убьет его и пойдет дальше.
В интереснейшей статье Андрея Чернова «Ода рябому черту» о «тайнописи в „покаянных” стихах Осипа Мандельштама» об этих строках сказано:
«Он сделал свой выбор – выбор не гражданский (тут ему выбирать не приходилось, выбор был сделан родившей его матушкой культурой), а языковой, сиречь поэтический. И сам объяснил, почему. Это был побег в чащу языка, побег к простым смыслам сложного…» Прекрасная интуиция и глубокое ощущение неслучайности каких бы то ни было строк Мандельштама (не в смысле Фрейда – «в тексте нет ничего случайного», а в смысле основательности их происхождения: даже услышанный с мая 37-го по май 38-го не вполне физически здоровым ухом «шум времени» остается Голосом) помогли понять, с одной маленькой поправкой, их природу: это был побег в чаще языка. Даже из одной чащи в другую и дальше – на простор.
Себя губя, себе противореча,
Как моль летит на огонек полночный,
Мне хочется уйти из нашей речи
За все, чем я обязан ей бессрочно.
За то, что он гостил в будущих слоях языках, его изгоняют из этого, где он не хотел видеть ни кары/казни (землетрясения), ни грязцы, ни костей (ни смирившихся, ни уничтоженных). Он не волк – не свободный, ни стайный охотник за овцами. Не овца и не лось (ведь возможна оппозиция волк – лось?); он – охотник, которому не чужд охотничий ритуал поглощения силы жертвы (здесь О. Мандельштамом предсказана сюжетная фишка фильма «Горец», даже с конвенциональным оружием: бессмертные дерутся мечами, он же сражается на языковом поле). Он человек долга и принесет себя в жертву тому, кто станет жить в грядущих пространствах языка и там – исполнившись силы самого Мандельштама – будет готов к свершению.
Этот финал Целан и Помяновский, словно сговорившись, переводят одинаково:
…und mich fällt/ Nur die ebenbürtige Hand.
A więc z ręki równego niech zginę…
Он убил себя сам, в прямом смысле не прикладывая рук, равного – равный.
2013 г.