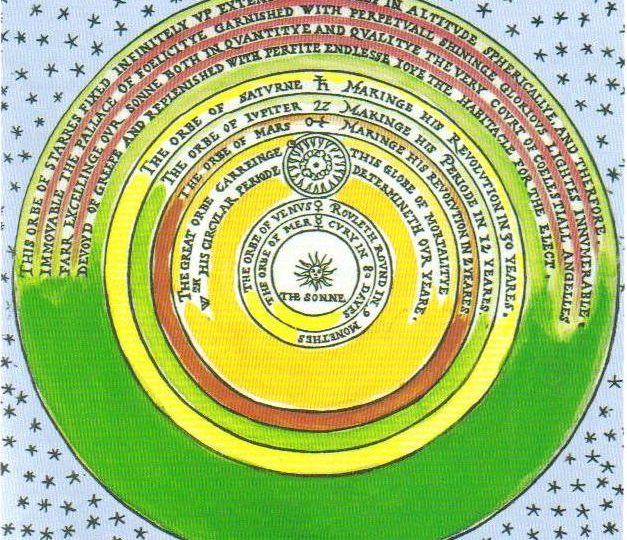Мы продолжаем публикацию книги Льва Карсавина “Джиордано Бруно”, которая увидела свет в Берлине в издательстве “Обелиск”. Нумерация страниц соответствует первому изданию 1923 года. Текст к публикации подготовлен Владимиром Шароновым
Лев КАРСАВИН. ДЖИОРДАНО БРУНО
БЕРЛИН
ОБЕЛИСК
1923
Л. Карсавин. Джиордано Бруно (1923). Глава I
Л. Карсавин. Джиордано Бруно (1923). Глава II
Л. Карсавин. Джиордано Бруно (1923). Глава III
Л. Карсавин. Джиордано Бруно (1923). Глава IV
Стр. 157
Глава III
ФИЛОСОФСКАЯ СИСТЕМА БРУНО
Стр. 159
16. Основная интуиция Николая Кузанского, не пантеистическая и не теистическая, легко сравнительно поддается и тому и другому истолкованию, хотя и ценой разрушения единства системы. Единство же системы покоится на единстве богословски-философского умозрения. Но Бруно, вслед за Тслсзио, Кардано и Парацельсом, хочет быть только философом, резко разграничивая богословие и философию. В первом он не силен и не глубок; он лишь подходит к его изучению, да и то, видимо, с общефилософской стороны в тот момент своего философского развития, когда перед ним распахнулись двери темницы, и для него настала пора не оставившего по себе никаких следов одинокого умозрения. Он отправился в иные, открытые его мыслью миры рассказывать там не о том, что делают римляне с богохульниками, как предполагал болтливый апостолический граф, а о том, каково его богословие. Пpедмeтoм философии, утверждал Бруно, не может быть абсолютное Божество в Его отъединенном от всего самобытии. «Этому Богу, как абсолютному, нечего делать с нами», по крайней мере — с нами -философами» Его можно постичь только верою или сверхъестественным озарением, не светом естественного разума. Философ может и должен познавать Бога только по «действиям природы» или в природе, как «самое природу», смысл чего ясен из философской системы Кузанца. «Более высокое созерцание для
Стр. 160
того, кто не верит, — невозможно и не существует». Для философа, как такового, абсолютного, трансцендентного Бога нет, а имманентность Его есть имманентность вселенной, «Этим одним, кажется мне, отличен верующий теолог от истинного философа».
Нельзя отказать приведенному различению трансцендентного и имманентного в глубине и четкости. Но, с другой стороны, не трудно себе представить, какими последствиями угрожает оно для всей системы развитых Кузанцем мыслей; и это, тем более, что понятие веры невольно, если не отожествляется, то сближается с понятием веры вульгарной. О последней сам Бруно говорит, что «она потребна для грубого народа, нуждающeгocя в том, чтобы им управляли», идея, высказанная и Кардано. Бруно не устает издеваться над ее жалкими попытками представить себе свой объект. — Один сицилийский поп, желая изъяснить вездесущие Божие, приказал сделать распятие величиною с церковь, наподобие Бога Отца, которому эмпирей служит балдахином, звездное небо седалищем, и у которого ноги так длинны, что попирают землю, словно скамеечку. Подобные дикие представления неспособны даже что- либо пояснить. — «Один мужик пришел и спросил: — Досточтимый отец, сколько понадобится локтей сукна на штаны? — А другой сказал, что всего гоpoxa, бобов и реп от Милаццо до Никосии не хватит набить ему пузо».
И разве не обнаруживает всей своей бессмысленности даже более тонкий антропоморфизм, хотя бы в идее Провидения или Промысла? — Меркурий перечисляет поручения, данные ему Юпитером на день. Вот некоторые из них. — «Васта, жена Альбанцио, завивая себе волосы на висках и перекалив щипцы, должна спалить себе 57 волосков, не обжегши однако головы, и на сей раз, почуяв гарь, терпеливо перенести это, а не злословить меня, Юпитера. Пусть у нея от бычачьего помета родится 252 улитки, из которых 14 раздавит на смерть ногою Альбанцио, 25 околеют, подняв
Стр. 161
кверху брюшко, 22 поселятся в хлеву, 80 отправятся путешествовать по двору, 42 удалятся на жительство в виноградник, что рядом с воротами, 16 потащут свой домик туда, где им удобнее, остальные будут предоставлены фортуне. Пусть у Лауренцы, когда она станет чесаться, выпадет 17 волос, 13 порвется, и из них 10 отростет вновь, а семь — никогда. Собака Антонио Саволино пусть принесет пять щенят, трое из них останутся жить, двух выбросят, а из первых трех один да будет в мать, другой разнится от матери, третий — частью в мать, частью в отца. Как раз в это самое время закуковать кукушке и так, чтобы слышно было и в доме, и прокуковать ей ровно 12 раз, а затем выпорхнуть и полететь на развалины замка Чикалы на 11 минут, оттуда на Скарванту; что дальше — о том позаботимся после. Юбке, которую мастер Данезе станет кроить на своей скамье, быть испорченной. Из досок кровати Констацио выползти и всползти на подушку 17 клопам, семи большущим, четырем малюсеньким и одному — так себе; а что с ними будет сегодня вечером при свете свечи, о том позаботимся после. Пусть на 15-ой минуте того же самого часа у старушки Фраулиссы от скользнувшего в четвертый раз по нёбу языка выпадет из правой нижней челюсти третий коренной зуб, и выпадет без крови и без боли, ибо зуб этот достиг, наконец, предела своего шатания, длившегося ровно 17 лунных месяцев… Пусть, когда Паулино захочет поднять с земли иглу, лопнет от напряжения красный шнур на штанах, а если он выругается — наказать его сегодня же вечером: да будут у него пересолены и подгорят макароны, разобьется полная фьяска вина; если же и тут он выругается — мы промыслим о том после. Кротам, которые за эти четыре дня вылезут из земли на воздух — двум попасть на поверхность земли одновременно, одному — ровно в полдень, другому — на 15 минут и 19 секунд позже и на расстоянии друг от друга на три шага, одну ступню и полпальца в саду Антонио Фальвано; о времени и месте прочих мы подумаем потом». Правда, Юпитер «все делает без хлопот, замешательства и
Стр. 162
затруднений», но «все прошедшее, настоящее и будущее творит единым актом»…
С нелепостью представлений о Боге связаны и нелепости культа. — «Безголовые и глупые идолопоклонники» пытаются подражать «величию египетского культа» и «разыскивают Божество, о котором у них нет никакого представления, в отбросах мертвых и бездушных вещей, … хуже того — торжествуют, видя, как почитают их дурацкие обряды». А обряды эти заимствованы иудеями, рожденными от матери-ослицы, у египтян и затем до неузнаваемости искажены. Словно «прокаженные (чему сочувствует не скрывающий своего антисемитизма Бруно) изгнаны евреи в пустыню, а «когда пришла нужда, прибегли к египетскому культу и, из известной потребности, стали поклоняться» Богу «под видом золотого тельца». В другой раз они чтили Тота в образе медного змия, чтобы, «добившись милости по врожденной им благодарности» разбить его так же, как ранее разбили тельца.
Бог вульгарной веры — «бог золота». Христос — нечто вроде кентавра; некоторые святые — «хуже сатиров, фавнов и других полузверей». И эту-то веру ставят выше философии, признаваемой глупостью; ее превозносят — «потому, что невежество самая прекрасная наука в мире: его приобретают без труда»! В вере таится источник нетерпимости и насилий. Из-за нее «вся Европа омрачена чумоносными Эринниями», и в ней «под предлогом поддержки религии работает страшная жадность». Хороши все исповедания, но пуще всех католическое! — как только человек перейдет в католичество, он сейчас же «из щедрого становится скупцом, из кроткого — наглым, из смиренного — гордым, из дарящего свое — грабителем и захватчиком чужого, из искреннего — лицемером…, из способного к некоторому добру и науке — готовым ко всякому невежеству и разбойничеству, одним словом: из, может быть, и плохого — худшим, таким, что хуже и быть невозможно». Вот там, в клубке «свистящих змей» восседает папа, вооруженный ключами и мечом, лице-
Стр. 163
мерием и жестокостью; «треглавый цербер в тройной тиаре», «прожорливое животное» с ослиными ногтями, украшенными кольцами! Все это, пожалуй, «слишком по философски», хотя и не по-протестантски. Ведь в Женеве — «преступнейшие исказители законов, веры, религии», «жулики, явные разбойники и расхитители чужого наследства», «гарпии», «бесплодная саранча».
Весьма соблазнительно и легко, во имя «религии духа» отвергая грубую веру, отвергнуть всякую веру вообще и отрицать возможность найти даже зерно истины в том, во что верит «ужасное чудовище с бесчисленными людскими лицами», верит церковь. В произведениях лондонского периода содержатся наиболее резкие нападки на христианство. Бруно словно скользит по грани отрицания всякой веры. Если бы он перешел эту грань, его философия должна бы стать действительно пантеистической и признать Бога всецело имманентным миру. Однако нечто большее слышится в призывах Бруно к «religione della mente». В нем жива и сильна мистическая потребность; и воспринятая им система Кузанца неумолимо развивает свою внутреннюю диалектику, ведущую к признанию надмирного Божества. Идея трансцендентности, раз она появилась в сознании, обнаруживает себя не только как идея, ею и как бытие. Она уже не даст покоя и не позволит остановиться на пантеизме тому, кто, признав ее, стал выше пантеизма, Бруно сопоставляет Христа с Пифагором, но в Пифагоре ценит не только философа, а и мистагога. Почему же отрицать эту таинственную силу за Христом? И если Бруно смеется над грубой обрядностью и наивной верой христиан и евреев, он признает истину и египетских мифах и египетском культе, старается вникнуть в идеи Каббалы. А все ли в религиях древности и тайных учениях — философия и, главное, все ли воспринимается в них как философия самим Бруно? — Сомнительно. Пускай, далее, египетская религия искажена иудейством и христианством. В искажении осталось что-нибудь подлинное. Если же так, то можно говорить лишь о реформе христианства;
Стр. 164
не об отказе от него, и мыслимо отношение к нему, как истинному учению, вульгаризированному толпой. Мы приближаемся к идеям Кузанца и без труда понимаем, каким образом автор «Spaccio della bestia trionfante» мог стремиться в лоно церкви и пленник инквизиции ссылаться на «Spaccio» в доказательство своего правоверия.
Различению трансцендентности и имманентности, сказали мы нельзя отказать в философской глубине. Однако оно содержит в себе некоторую недосказанность, а потому и заблуждение, особенно очевидное на почве онтологизма гносеологии Кузанца. — Нельзя мыслить понятие трансцендентного без понятия имманентного: в первом необходимо заключается и второе. Поэтому трансцендентное не может быть абсолютно трансцендентным, т.е. целиком выходящим за пределы всякого опыта, реального и возможного. И если бы оно не находилось как-то в нашем опыте, у нас не могло бы быть ни мысли о нем, ни мысли об имманентном. Идея трансцендентности («вещи в себе») не может возникнуть на почве восприятия какой-то ограниченности имманентного, в качестве его предела, так как само восприятие этой ограниченности, идеи ее, возможно лишь на почве восприятия трансцендентного. И если реальна ограниченность «опытного», имманентность, немыслимо предполагать, будто нечто большее, обусловливающее его может быть нереальным. Следовательно, трансцендентное дано нам как трансцендентное относительно, как — выражаясь заведомо неудачно — «частично» выходящее за пределы нашего опыта, непостижимое целостно, «infinitum»; абсолютно-трансцендентного мы не в силах даже помыслить, ибо мышление о нем есть уже его имманентность. Но ведь вот сейчас мы же мыслим о нем? — Нет, мы мыслим имманентную нам трансцендентность, да еще затемняем дело грубо-пространственными аналогиями. Мы представляем себе, как символ трансцендентного, какую-либо вещь, реально существующую и в данный момент чувственно нами не воспринимаемую, забывая о том, что духовно-то мысленно мы ее воспринимаем. Или мы воображаем себе
Стр. 165
замкнутое в себе пространство, за пределами которого что-то находится; но и в этот случае представление ограниченного пространства есть уже и представление о чем-то его ограничивающем. Попробуйте представить или помыслить свое имманентное бытие, вы не найдете в нем ничего абсолютно-трансцендентного. Мыслите его ограниченным и условным, например — начавшим быть, вы сейчас же убедитесь, что мыслите нечто его обусловливающее, все же вам имманентное, хотя бы и постижимое лишь в момент вашего возникновения. Термины «трансцендентное» и «имманентное» совершенно неудачны и при ближайшем рассмотрении оказываются синонимами «абсолютного» и «относительного». И Бруно прав, когда утверждает, что для философа не существует Бога вне мира и вне его так или иначе познаваемого. Действительно абсолютное или «отрешенное» от всего Божество не существует. А если вера постигает его, то не в смысле чего-то не находящегося в нашем сознании, а в смысле не находящегося в нашем уме, но находящегося или обнаруживающегося в особом состоянии сознания, называемом верою. Но вера, не та вульгарная, которая характеризует толпу, а истинная, не может быть оторвана от знания, являясь видом его и даже его началом, ибо она обосновывает принципы самого знания. — «Fides est species cognitionis, quam in suo loco definivimus principium omnis cognitionis, maxime vero scientae, coinprenendens eos terminos, qui sunt per se noti et per quos omnia cognoscuntur».
Из всего сказанного следует, что смысл приведенных в начале этого параграфа утверждений Бруно надо раскрыть так. — Бог существует и познаваем: Он дан нашему уму (в широком включающем и ум и разум смысле) и, как принцип знания, нашей вере. Возможно, что верою он пocтигается еще больше и вера обосновывает догму религии. Таким образом познаваемое как Божество и есть Божество, Но Бруно, обращая это суждение, считает возможным сказать: Божество (т.е. все Божество) есть познаваемое, как таковое,
Стр. 166
и только познаваемое. Значит, нет для знания «абсолютного», т.е. отрешенного от мира, от познаваемого, Бога. Можно, продолжая мысль Бруно, сказать, что нет его и для веры, так как верующий и верою приемлющий Бога тоже часть мира. Если же Бог всецело заключается в области так или иначе познаваемого» т.е. в природе, в природе только и можно Его познавать: Бог и есть природа или основа природы. И Он не может быть особой самобытийной основою природы, от Него отдельной, так как тогда бы Он не познавался. Здесь источник пантеистической тенденции Бруно. Однако мы вправе спросить: как познается Бог в природе, вместим ли Он ею, несмотря на утверждение Бруно. В праве же мы поставить подобный вопрос потому, что в самой постановке вопроса об отношении Бога к природе мыслится уже реальность и надмирности Бога, «частичной» Его трансцендентности или, лучше, частичной Его заключенности в природе. Обращение суждения, произведенное Бруно, не только не правомерно логически, но в подлежащем обращенного суждения уже заключается идея надмирности Божества. Иными словами — Бог дан познанию в природности своей и, в то же время, в своей надприродности, не как абсолютное в смысле полной отрешенности, но как выходящее за пределы природы и обусловливающее ее ограниченность. Эта интуиция не позволит Бруно стать чистым пантеистом, тем более, что на ней покоится вся система Кузанца. Поскольку Джиордано ощущает ее, она всегда будет разбивать все его попытки замкнуть Бога в природе. Но поскольку она будет опознаваться в ограничивающей ее форме неправильно обращенного суждения Бруно вынужден будет обосновывать абсолютность мира, ибо только этим путем возможно (если только возможно) заставить хоть на время замолчать голос истины.
17. Исходная интуиция Бруно находится в тесной связи с учением его о познании, в нем получая свое развитие и pазъяснение.
Стр. 167
Подробнее и полнее, чем Николай Кузанский, но всецело в его духе, как и в духе Телезио, защищает Бруно мысль о единстве человеческой души. Всякое деление души на способности относительно и условно: «в нашей власти ограничивать слова и понятия так, как мы хотим». Поэтому можно, например, назвать разум следствием или действием чувственности, чувственностью или чувством. В себе самом чувство только чувствует (ощущает); в воображении ощущает себя чувствующим. И чувство есть уже некоторое воображение. Оно воображает в себе, а в разуме воспринимает себя воображающим. Чувство есть уже и разум и в себе доказывает (argumentatur), в уме (intellectus) замечает себя доказывающим. Чувство же есть и ум: «умопостигает (intelligit) в себе, а в Божественном духе (mens) созерцает свое умопостижение (intelligentiam)». В каждой из этих «способностей» находятся, как силы или потенции, низшие, чем она. Высшая — «mens» или дух — отец первого ума, содержащий его в себе бесконечным образом («infinite»), и если в высших умах высочайшим образом (altius) содержится потенция низших познавании (cognitionum), она возвышеннее всего в первом уме. Точно так же «умная душа» заключает в себе, как свои потенции, чувственную и жизненную (vegetativa); первая содержит в себе вторую. Отметим еще, что жизненная душа (anima vegetativa), являяся материальным принципом познания, относится к чувственности, разумности и умности, как к формальным принципам или к формальному принципу, ибо по сущности и бытию вторая, третья и четвертая совпадают. Единство души не мешает различать ее «способности» или «души», и это различение не произвольно: оно реально и объяснимо для разума в понятии потенции и акта, как у Николая Кузанского.
Принцип познания состоит в восхождении от чувственного восприятия к разумному умозаключению, от него к умопостижению и, наконец, к интуитивному созерцанию духа. В виде некоего образа или отображения (а не сам в себе),
Стр. 168
познаваемый объект воспринимается чувственностью (sensitiva apprehensio). Фантазия или «внутреннее чувство как бы приемник или амбар внешних чувственных видов», удерживает этот образ и делает его объектом низшего мышления (cogitatio), приемлющим от чувственности нечусственное Можно объединить все перечисленные процессы, как деятельность чувственности или чувства, которое дает разуму образы, либо воспринятые только сейчас, либо воспринятые раньше, но хранимые фантазией или воображением, удерживающим (уже как разумное воображение) и продукты деятельности разума. Доселе разум дремал, находясь в состоянии потенциальности. Теперь он разбужен одухотворенными образами, и начинает извлекать из воспринятого «нечто дальнейшее нечувственное или надчувственное», «выводить» его: из частного общее, из предшествующего следствие. В этом и заключается его деятельность, «argumentatio discursus». Но разум выводит и, с помощью разумного воображения, удерживает плоды своей работы только рассеянно и разъединенно. Проверяет или оценивает истинность их, с одной стороны, и охватывает все неким непосредственным и объединяющим, «стягивающим» видением, «простым воззрением», с другой, уже ум или интеллект. В уме исчезают существующие для разума противоречия единого и многого, тожественного и различного, низшего и высшего, движения и покоя, и т.д. Но, собственно говоря, сам ум не видит, по крайней мере — не видит без помощи духа, «некоего света и блеска, происходящего из чувств и ума». Дух «выше ума и всяческого познавания». Он и постигает все простым воззрением без всякого предшествующего или сопутствующего ему рассуждения, без числа или растяжения. — Бруно говорит и о Божественном Духе или самом Боге, который возносит ум горе, как воображение влечет его долу, и о духе человеческом. Во втором случае дух до неразличимости сливается с умом и является субъективным светом Кузанца; в первом — соответствует тому, что Кузанец разумеет под объективным светом веры, благодатью. Словом или Духом Божьим.
Стр.169
Перед нами воспроизведение гносеологии Кузанца, подводящее к той же проблеме абсолютного первоединства. Каково же познавательное значение описанного процесса? — Чувство не дает нам вещей; оно только возвещает о их наличности, передает как бы тени, падающие от объектов познания, одну лишь видимость или поверхность вещей. «Истина получается в маленькой части от чувства, как от жалкого начала, хотя она не в чувствах»; она частично ими указана и дана, но все же дана. Чувственно воспринимаемый объект в восприятии реален и в тени своей, В чувственности находится его образ, но это не создаваемый чувственностью, а реальный образ, как бы часть или аспект реальности, хотя и не суть, не «quidditas» ее. В этом смысле чувство «не обманывает и не обманывается». Действительно, обман существует лишь там, где есть утверждение или отрицание; чувство же «не утверждает и не отрицает, а только приемлет представшие ему виды». Достоверности в чувстве искать нечего, но не в нем и начало обмана. Оно само сознает свою недостаточность и бессилие. Поэтому оно непостоянно и дает разуму повод обманываться. «Перестанем же, перестанем дивиться предлагаемым чувствами видам» своего рода теням вещей!»
Чувства пробуждают деятельность разума, познавательное содержание которого уже богаче. Разум выводит следствия, извлекает из даваемого ему чувствами нечто большее, чем воспринимается самими чувствами, не подозревающими, каким богатством они обладают; разум умозаключает от частного к общему. Так «чувство не воспринимает истинной окружности», а разум из чувственно-конкретной окружности извлекает находящуюся в ней истинную, общее понятие или идею окружности. Если «в чувственном объекте истина, как в зеркале, в разуме она по образу доказательства и рассуждения». Но разум вовсе не создает объекта своего познания сам; он ничего от себя не прибавляет к содержащемуся в чувственности: объект его реален, а не субъективен. Этот объект — действительность, которую разум постулирует,
Стр. 170
разбуженный к деятельности чувственною стороною действительности. У разума есть свои приемы или законы деятельности: он разлагает, разъединяет; пробегая по объемлемому им, он умозаключает, «coniicit», хотя сам и не видит. Но природа разума ограничивает его знание, а не создает какую-то иную, отличную от воспринимаемой действительность. Ум или ум-дух удостоверяется в истинности перешедшего от чувства к разуму, проверяет и оценивает выводы разума, ио уже путем непосредственного видения, не единичного и рассеянного, конечно, а того общего, что постулирует, но не может видеть разум. Однако, узреваемое умом (и духом) отнюдь не создание ума, еще менее — создание разума или чувства. Это — сама действительность не только действительность ума, но действительность объективная. Она не существует обособленно, подобно «началам», «архетипам», «идеям» Платона, но заключена в самой конкретности. Непосредственно в этой конкретности, как бы докатившейся до ума от чувства, а вернее — всегда ему предстоявшей, ум созерцает действительность. Но он выше и шире разума, не стеснен его гранями или законами, а потому ему доступно совпадение противоречий между выводами разума. Таким образом, разумное знание в известном смысле отрицается умом и оказывается незнанием или неведением, «глупостью», тем незнанием, о котором говорят с одной стороны — каббалисты и теологи-мистики, а с другой — «пирронианцы и прочие скептики». Христианские же богословы — мысль высказана в «Каббале Пегаса», принадлежащей лондонскому периоду, — присоединяют к такому отрицанию еще и утверждение «всех принципов, доказывая их, но без приемов доказательства и очевидности», т, е. верою. Вместе с каббалистами и мистиками они исходят из «непостижимого и необъяснимого начала для того, чтобы обосновать знание, которое является наукою всех наук и искусством всех искусств». К этому же, к пониманию неведения, как средства или «ступени» знания, приближаются и скептики, несмотря на внутреннюю противоречивость и ошибочность их
Стр. 171
взглядов. Можно возразить, что отрицание противоречий уже само по себе является неприемлемым противоречием. — Бруно отведет подобное возражение простым указанием на то, что неприемлемость противоречия существует только для ограниченного в своей деятельности законами ее разума, не для ума и не для действительности. Но ведь разум тоже действительность, — Конечно, и он сам и его познание — объективная действительность, но постольку, поскольку он утверждает. Отрицание же им противоречивых утверждений, ограничение его деятельности единичным — действительность только для него и не что иное, как сама его ограниченность или недостаточность. Но как возможно само усмотрение или созерцание совпадения противоположностей? Бруно отвечает: доказательно, с основанием, хотя и не путем силлогизма и без очевидности, одним словом — так, как мы реально убеждаемся на опыте, ибо вовсе не утверждалось, будто совпадение прямой и кривой в одной линии должно быть зримым чувственно.
Знание, говорит Бруно, ближе всего к Истине. Но надо различать самое «несозданную Истину», которая является причиною вещей и находится н а д ними (вполне ли согласуется это «над» с «границами философии»?), «второй вид Истины» или истину в вещах и, наконец, третью Истину, которая существует соответственно вещам и и з н и х и с х о д и т. Последняя и есть знание. Но она неразрывно «связана и соседствует» со второю, объектом ее, как познавания, и сама есть субъект, в котором вторая чрез посредство своих родов выражается. Однако, третья Истина (или знание) не делает вещей истинными, как первая, и не находится в самих истинных вещах, как вторая, т. е. нe есть эти вещи в их истинности: ее образуют и производят истинные вещи. В этом смысле надо сказать, что мы познаем не сущность вещей, а подобия, например — подобие золота. Отсюда можно, если угодно, вывести теорию репрезентативного знания со всеми скептическими, вселяющими полную безнадежность ее следствиями. Недаром в своем незаконченном диалоге «Каббала
Стр. 172
Пегаса», откуда взяты приведенные рассуждения, Бруно завершает беседу изложением, но не опровержением неприемлемого для него крайнего скептицизма. И все-таки такое толкование мысли Ноланца неправильно.
Разумеется, «человеческая душа», находясь в теле, не может коснуться субстанции вещей, но — с помощью чувств блуждает по их поверхности, расследуя меры, действия, подобия, научения». Но ведь такое же признание непостижимости «quidditas» вещей не помешало Николаю Кузанскому допускать подлинность знания. Как уже отмечено при анализе познавательного значения чувств и разума, — тени, образы, подобия и все аналогичные термины вовсе не обозначают, что чувства, разум, а тем более ум и даже дух имеют дело со своими продуктами. Образ не истина, но он что-то реальное, находящееся в истине, если можно так выразиться — часть или аспект ее. Он дает истину неполно, но все же дает. Прибегая к ходячему ныне примеру из области ощущений, зеленый цвет листа не есть полнота его зелености: в этой зелености мы не улавливаем колебаний эфира, но он и не обманчивый продукт нaшего сознания, а объективное качество отражающего колебания эфира листа и самого этого колебания. Таков дух учения Бруно, что подтверждается рядом определенных его заявлений.
Если провести градацию познаваемого нами, то в духе (mens) находятся вполне сущностные формы (formae omnino essentialеs); формы в разуме «как бы сущностны» (quasi essentialеs); формы, передаваемые разуму соображением, «как бы акцидентальны» и только формы чувственные акцидентальны совершенно. Таким образом, нам несомненно доступна сама Истина, по крайней мере постольку, поскольку она находится в вещах и делает их истинными, а значит — находится и в нас самих, делая истинными и нас. Вся метафизика Бруно иного решения не допускает; впечатление же, будто он дает теорию какого-то относительного знания, основано отчасти на невыдержанности его терминологии,
Стр. 173
отчасти на подходе к его системе с точки зрения современного репрезентационизма. Для Бруно совершенно ясно, что единая Истина может реально восприниматься и реально быть в воспринимающем в разных модусах или аспектах, не теряя от этого своей реальности. Так, «роды Божественного и человеческого постижения, поскольку дело идет о модусах его… совершенно различны, поскольку о субъекте… тожественны». С этой точки зрения надо принять во внимание ограниченность или конечность нашего индивидуального познания, требуемую основными положениями метафизики Бруно. Ум, воспринимая «определенную интеллигибельную форму», подымается от нее все выше к воспринятию «возвышенного источника идей, океана всякой истины и благости». За каждым предстоящим ему видом он прозревает высший, движась все вперед. «Всегда он видит, что обладаемое им — ограниченная вещь и потому не может самодовлеть: оно не благо само по себе, не прекрасно само по себе, ибо не всеединство (l”universo), не абсолютное сущее, но нечто стяженное быть этой природой, этим видом, этой формой, представляемой уму и предстоящей душе». «Воспринимаемое конечным конечно; восприятие не происходит так сказать пропорционально (proportione quadam): нет никакой пропорции между бесконечным и конечным», «infinitii ad finitum nulla est proportio». И наша умная потенция (potenza inteiletiva) может постигать бесконечное только чрез отрицание и путем своего рода рассуждения. Поэтому ум «оформляет интеллигибельные виды по своему (аl suo modo) и соразмеряет (proporziano) их своей восприимчивости (capacita); он постигает вещи интеллигибельно; id est по своему (secondo il suo modo)».
Итак Истина дана в знании, которое, однако, в своей разумности, еще больше в чувственности, а частью — даже в интеллективности отлично от Истины в вещах и в н е й самой, отлична в смысле ограниченности или конечности. Но эта ограниченность не исключает ценности всякого модуса знания. Ведь даже наблюдаемый нами у животных инстинкт в некотором смысле выше человеческого ума, лучше, на-
Стр. 174
пример, предвосхищая будущее. И все же, хотя и в измененной формулировке, всплывает старый вопрос; может ли человеческое знание постичь истину вещей в ней самой. Ответ намечается в положительном смысле в связи со способностью, обозначаемой у Бруно термином «mens», и в смысле экстатического видения, в котором теряется различие субъекта и объекта. Именно в силу двуединства «mens», то Божественного, то человеческого, можно говорить о достижении высшей ступени познания, т. е. слияния со всеединством вселенной или с Богом, ибо философ ищет Бога во вселенной и ее пределами Бога ограничил. Возможно ли, далее, постижение Бога, как не вмещаемого вселенною, как трансцендентного в разъясненном нами значении этого термина? На этот вопрос можно ответить лишь после решения другого, основного в системе Бруно: есть ли такой трансцендентный Бог.
Гносеология Бруно превозмогает опасность теории репрезентативного знания. Но она ставит другой вопрос. — Обладает ли всякий модус знания абсолютною самоценностью или же только относительной? По-видимому, и здесь ответ должен быть положительным. Действительно, чувственность дает частично самое реальность и даваемое ею не может исчезнуть в интеллектуальном постижении, если оно содержит полноту сущего. А в этом случае, в силу единства познающего духа и относительности деления его на способности, надо допустить, что и в чувственности познает сам интеллект или дух. Высшая ступень знания, комплицитность низшей, есть расширение, а не умаление. Процесс восхождения не что иное, как процесс снятия ограничений. Каковы только эти ограничения и относится ли к ним индивидуализация познания, как будто исчезающая в наивысшем его акте, когда снимается различие субъекта и объекта? Иначе говоря, является ли самосознание только ограничением или же и чем то положительным? Николай Кузанский должен ответить на это признанием положительного значения личности. Как ответит Бруно, должна показать его метафизика. Но,
Стр. 175
очевидно, ограничение Бога только природою необходимо приведет к отожествлению Его с актуальной бесконечностью, которая, как таковая, может быть, лишь комплицитностью относительной и потому полагающею эксплицитность, а, значит, и модусы знания и самосознание в н е себя.
На чем же основывается гносеология Бруно, что утверждает ее истинность, что утверждает самое Истину или — каков ее признак? Разрушитель авторитетов, Бруно не верит ни им, ни преданию, он призывает к сомнению, как методу философствования. Но сомнение не может быть последним и окончательным моментом познания. Оно само себя уничтожает. Зачем, на самом деле, скептики напрасно себя мучают? Зачем ломают себе голову и рассуждают, раз они не надеятся, что из всего этого нечто выйдет? Если они последовательны, они должны усумниться и в сомнении. Надо быть верным своему принципу. А стоит только «потуже подтянуть поясом живот», как придешь к дальнейшему увеличению, «лестницы философского бессмыслия». Тогда «высшая ступень высшей философии и созерцания будет заключаться не в том, чтобы ничего не утверждать и не отрицать, но в том, чтобы и не м о ч ь что либо утверждать или отрицать». Последовательный скептик приходит не только к отрицанию самого скепсиса, но к отрицанию возможности его, к отрицанию собственного своего бытия. — Сомнение не должно быть разнузданным сомнением ради сомнения. Оно лишь средство к отысканию несомненного, т. е, очевидного, самого света истины, к раскрытию силы истины, «vigor doctrinae». Очевидное же отличается, во-первых, тем, что оно «согласно с собой», «constans sibi», во-вторых, — тем, что «согласно с вещами», «constans rebus». Признак очевидной истины в том, что она одна и едина, в единстве и всеединстве. Там, где существует это двойное единство, где все сопряжено, где нет никакого промежутка, «nullus medius testis», там нет места, некуда проникнуть сомнению, А истина и единство там, где «совершенно сопрягаются и соединяются чувство со своим чувственным,
Стр. 176
умное со своим умным», т. е. где исчезает различие субъекта и объекта и знание отожествляется с бытием. Это отожествление происходит, когда абсолютное бытие соединяется с нами, «озаряя, оживляя, объединяя», «illuminando, vivificando, uniendo». Самоочевидная Истина, источник всякой очевидности, как признака истинности, сильнее нашего сомнения. «Облик Истины, величие Света, в конце концов, побеждает», принуждает признать себя. Истина, как ясно из сказанного, проявляет себя везде и в чувственности — не могу я отрицать материю, страдая от власти моего тела надо мною — и в разумности, но полнее всего в уме. Можно даже сказать, что и в чувстве и в разуме истину воспринимает и убеждается в ее очевидности именно ум.
Если пытаться обосновать самое очевидность в состоянии некоторого уклона к реальному различению вышеуказанных трех видов Истины, ее можно обосновать идеей истинности или правдивости Бога. Бог, рассуждает Бруно, в этом пункте, как и в теории методического сомнения, предваряя Декарта, создал все: и чувственность и ум, но Бог может существовать лишь в том случае, если Он правдив, если Он — сама Истина и Правдивость. Поэтому Бог не мог нас обмануть, открывая нам материальный мир в чувственности, идеальный — в уме. Ведь обман нас был бы обманом самого Себя, ибо Истина есть всеединство бытия и знания. Но если так, то оказывается, что доказательство Истины от правдивости Бога производно и покоится на другом. А это другое, столь ясное в понимании Истины, как всеединства, и отраженное размышлениями о всепобеждающей силе Истины, не что иное, как онтологическое доказательство бытия Божьего. На нем построена вся система Николая Кузанского; на нем же строит свою и Бруно. «В Боге», говорит он, «бытие и сущность одно и то же, тогда как во всем остальном надо различать то, что оно такое, и то, что оно есть. Поэтому Бог простейшая субстанция, а вне Его все сложно, даже природа бестелесная, ибо везде отличают бытие от сущности». Онтологическое доказательство, до которого достигают путем восхождения
Стр. 177
ко все более общему, обосновывает всякую очевидность обратным путем — нисхождением к конкретному, ибо Бог — «сущность всех сущностей». Вместе с тем и убедительность или неубедительность онтологического доказательства, а с ним и самоочевидности оказывается зависящим от того, на какой из намеченных Бруно ступеней познания находится познающий. Оно совершенно несомненно для познающего самого Бога. «Однако, Бога обретает лишь тот, кто так возвышается над всем, что все оставляет за собой, возвышается к бесконечному и в одном никогда не кончающемся подъятии надо всем стремится к Нему, но, конечно, никогда Его не достигает. Ибо Его может обнять лишь высший ум, как бесконечно же Он не может быть соравно представлен никем, кроме Себя самого».
18. Истинный философ, руководясь «естественным светом ума», «не ищет Божества вне бесконечного мира и бесконечных» по числу «вещей, но внутри того и других». Этим положением, высказанным в диалогах «De la causa, principio e uno» (1584), которые вместе с одновременным им «De lъInfinito, Universo e Mondi» дают «основания всего здания нашей философии», определены и задача и, до известной степени метод исследования. Философия же должна показать Бога в формах и сущностях вселенной. «Прежде, чем ринуться к высотам, на которых теология помещает архетип существующего, надо признать Вселенского Деятеля», «l’Efficiente Universale» или «l’Ottimo Efficiente», «в творении». Даже, если считать такое воздержание от «теологии» временным, задача философии оказывается не только ограниченной, но и намеченной в неправильном направлении: Бруно придется или не выходить за пределы «стяженного» единства, комплицитности относительной, или быть непоследовательным.
Познать Вселенского Деятеля в творении значит подняться к Нему от «действий природы», «gli effetti de la natura» и подняться, конечно, не чувственностью или разумом, что
Стр. 178
невозможно, а умом. — Все, что не является Первоначалом, что в себе самом не имеет своей причины, проистекает из начала и предполагает причину. А таково именно все воспринимаемое нами, обнаруживающее поэтому в себе следы этого начала или этой причины.
Но прежде всего — в чем разница между началом или принципом и причиною? Принцип, говорит Бруно, есть нечто, слагающее вещь извнутри, источник возможности ее существования, внутренний ее разум. Принцип неразрывно связан со своим действием, сохраняя в себе сущность производимой им вещи. Так принципами вывода являются посылки, принципом линии — создающая ее своим движением точка, «первая часть линии», «minimum, quod prima est pars». Производя вещь, принцип является как бы и ее действием, и его отношение к ней аналогично отношению формы к материи. Причиною же называется то, что производит вещь не извнутри, а извне, само оставаясь вне вещи, вне своего действия. Точка не причина линии, посылки не причина вывода. Находясь вне, причина определяет внешнюю действительность вещи, она — орудие по отношению к создаваемому, средство по отношению к цели. Обычно, следуя Аристотелю, говорят о четырех причинах: действующей (causa efficiens), формальной (causa formalis), материальной (causa materialis), конечной или целевой (causa finalis). Собственно, только первая и четвертая суть причины, вторая же и третья, как находящияся не вне, а внутри вещей, — начала или принципы их. Эти то принципы и должна прежде всего рассмотреть философия. — Постановка вопроса чрезвычайно важная и чреватая последствиями. Речь идет не о внешнем вещей, но о самой их внутренней сущности, о чем-то от них не отделимом. И первым делом следует установить взаимоотношение между формальной и материальной причинами, а вернее — принципами.
Форма и материя — понятия, стоявшие в центре средневековой философии, повторявшей аристотелизм и ново-
Стр. 179
платонизм. Отношение формы к материи есть отношение акта к потенции, действительности к возможности. Благодаря идеям Николая Кузанского Бруно было ясно, что должно существовать некоторое единство действительности и возможности, некоторое «Possest», обусловливающее и созидающее одинаково и потенцию и акт. Но, во-первых, по известному уже нам основному заданию своего философствования, он должен был искать этого «possest» в мире, преграждая себе путь за пределы актуальной бесконечности; а во-вторых, он, можно сказать, философски выстрадал идею единства формы и материи, озаренный светом Кузанской философии уже тогда, когда достигал цели. Мысль Бруно двигалась от аристотелевского и схоластического различения между потенцией и актом, между «posse» и «esse», к стяженному бытию. В сочинении «О тенях идей» он еще определяет форму или идею, как «per se maxime ens», «в высшем смысле сущее чрез себя». Соответственно этому материя, мыслимая, как потенция и, конкретнее, как вещность, понимается в смысле «наималейшей бытийности и почти ничто», «minimum entitatis et prope nihil». Bo всякой субстанции ясное или постигаемое не что иное, как последний отблеск первого света, высшей актуальности, формы или идеи; напротив, тень окружающая субстанцию имеет начало в этапирующей из первой субстанции тени (из умопостигаемой материи, сказали бы новоплатоники) и возводится к первому субъекту, приемлющему формы и «называемому нашими физиками материей». Существует «единая первая форма, сущая чрез себя и от себя, простая, неделимая, начало оформления и всякой сущности (subsistentie)». Сама она — «сверхсущность», «источник идей», «бесконечная форма», «абсолютная форма бытия, дающая бытие всяческому», «бесконечный свет». Даруя всему бытие и форму, она — здесь совершенно очевидны новоплатоновские тенденции — нисходит вниз по ступеням и «отпечатлевает на тылу материи следы идей», «idearum vestigia materiae dorso imprimit», погружаясь в самую ее глубь. Материя же, это «почти ничто», по тем же
Стр. 180
ступеням словно подъемлется к форме. И «от различия инаковости и разности сопричастия между этой материей и этой формой на ступенях сопричастия происходит различие инаковость и разность существующего».
Пред нами типичное и очень конкретное, пластическое построение. Новоплатоновское по происхождению, оно свидетельствует об интуиции всеединства и конкретности, почти натуралистичности его восприятия. В нем можно отметить и еще одну сторону. Новоплатоновская диалектика возвела Бруно к умозрению Первоначала, как абсолютной формы или идеи. Но для новоплатоника ясно, что усматриваемое Первоначало усматривается, как превосходящее бытие, как восходящее за его пределы, трансцендентное, хотя трансцендентность его и постигается, разумеется, не в сущности, а в самом факте трансцендентности. Бруно не замечает этого, подобно Парацельсу и Кардано, подобно Телезио ограничивая задачу философии. Перед ним встает иная проблема — преодоление новоплатоновского и аристотелевского дуализма формы и материи. Надо было мыслить «почти ничто», как «нечто», и, следовательно, допустить в природе две субстанции: форму и материю. Можно бы пожалуй, попытаться обострить ничтожество материи и в определении ее, как «рrоре nihil», отбросить «ргоре» или заменить его «omnino», но для такого выхода мироощущение Бруно было слишком конкретным; к тому же обратись к новоплатоновской конструкции, он не забыл своего увлечения Демокритом и Эпикуром. Поняв их односторонность и недостаточность, Бруно видел, что и они и стоики в утверждениях своих ближе к истине, чем Аристотель, а их подтверждал и «рассудительнейший Телезио». Желанный исход указывал араб Авиценна, учивший, что «материя — необходимое, вечное, и божественное начало, даже — сам Бог во всех вещах». Взгляд же Авиценны повторен был и в теории Давида Динанского, известного понаслышке и упоминаемого Кузанцем. Правда, отожествление пространственной материи с абсолютным бытием нелепо; но оно
Стр. 181
облегчалось тем, что философское понятие материи, той самой, которая мыслилась в противопоставлении форме, в аттрибуте пространственности не нуждалось. Идея материи в обращении с ней легко допускала «quaternio terminorum». Как бы то ни было, Бруно нашел — другой вопрос, насколько правильно, — ошибку Аристотеля, приводящую к дуализму. — Аристотель — и здесь у Бруно можно подозревать первые влияния кузанизма — определяет первоначало не настоящим его именем, а посредством рационального отвлеченного понятия, благодаря чему и приходит к принципу более логическому, чем к физическому, «magis iogicum, quam physicum», т. е. к принципу не реальному: «quod ideo reale non dixerim». На самом деле «одна только логика различает» материю и форму. Аристотель «никогда не устает разумом различать то, что по природе и истине нераздельно». Отсюда проистекает ряд нелепостей и мнимых проблем. Так перипатетики серьезно говорят, как о субстанциальных формах, о «сократовости», «деревянности», «оливковости» и т, д. «Оставим в покое субстанцию, называемую материей. Скажите мне, что за субстанция форма. Иные ответят: — Ее душа. — Спросите, что такое это душа. Если они скажут: — Энтелехия или усовершение тела, которое может жить, — обратите внимание на то, что это некая акциденция. Если же они скажут, что душа — начало жизни, чувства, питания и ума, заметьте: хотя это начало является субстанцией… они его полагают, во всяком случае, как некоторую акциденцию. Ведь назвать ее началом того либо иного еще не значит признать ее субстанциальным и абсолютным разумом, но — разумом акцидентальным и относящимся к тому, что вызвано началом». Иными словами — поскольку материя противополагается форме, нельзя понять душу иначе, как нечто привходящее к материи (акциденцию ее). «Далее, уберите прочь материю, общую железу, дереву и камню, и скажите: — какая остается субстанциальная форма железа, дерева и камня. — Они укажут только на акциденции. Акциденции же относятся к началам индивидуации и дают
Стр. 182
вещам их частные свойства. Ведь материя приемлет частность только чрез какую-то форму. И для того, чтобы эта форма была составляющим началом субстанции они хотят признать ее субстанциальной, но физически могут показать ее только акцидентальной. Правда, обозревая все созданное, в конце концов, они, в меру своей возможности, придут к субстанциальной форме, но не природной, а логической; в конце концов, какое-то логическое понятие признается началом природных вещей». Аристотель говорит, что «материя есть бытие в потенции. Спросите-ка его: — Когда она будет актуальна (in atto)? — Огромное большинство вместе с ним ответит: — Когда получит форму. — Тогда задайте второй вопрос: — Что такое обладает бытием теперь? — На стыд себе они ответят: — «Сложное», а не «материя», ибо материя всегда то же самое, не обновляется, не изменяется, — Об искусственно созданных вещах, когда, например, из дерева сделана статуя, мы не говорим, будто к дереву привходит новое бытие, потому что дерево ничем не стало больше или меньше, чем прежде; но — получающее бытие есть актуальность, а нечто вновь возникающее (именно статуя) — сложное». Как же можно говорить, будто потенция принадлежит тому, что никогда не будет актуальным? Этим уничтожается само понятие потенции. Материя, утверждают перипатетики, всегда — то же самое, неизменное; изменения, по их словам, происходят вокруг нее и в ней, сама же она не меняется. По их собственному учению, увеличивающееся и уменьшающееся, меняющееся и подверженное порче не материя, а — «сложное». Как же тогда можно признавать материю то потенциальной, то актуальной? Ведь она — «потенция, не отделимая от акта».
Но если падает понятие р е а л ь н о -отличной потенции или материи, необходимо отказаться и от понятия р е а л ь н о -отличной формы или акта. «Почему, царь перипатетиков, вместо того, чтобы считать материю, как не имеющую никакой актуальности, ничем, ты хочешь, чтобы она была всем, обладая всеми актами, спутанными
Стр. 183
или спутаннейшими — все равно? Не ты ли, говоря о новом бытии форм в материи или о порождении вещей, всегда утверждаешь, что формы происходят и выделяются из внутренности материи?» И если материя вечна, не лучше ли признать, что «она более актуальна, чем твои формы, твои энтелехии, которые приходят и уходят». «Отказываясь прибегнуть к фантастическим идеям Платона, столь тебе враждебным, ты с необходимостью вынужден будешь сказать, что эти видообразующие формы обладают своею пребывающею актуальностью в деснице Созидающего, а в этом случае ты не сможешь объяснить, почему называешь Его возбудителем и вызывателем форм из потенции материи. Или же ты принужден будешь сказать, что они обладают пребывающей актуальностью в лоне материи. А в таком случае тебе нужно объяснить, почему все появляющиеся на поверхности формы, которые ты называешь индивидуальными и актуальными, которые уже были, суть и будут, — почему они являются получающими начало, а не самим началом».
Такова критика Бруно, не новая: о том же говорили и Телезио, и «французский архипедант» Рамус, и «дерьмо педантов» Патрици. Пожалуй, ближе всех к истине был последний, утверждая, что Аристотель не понят перипатетиками. Разумеется, для всех их и для Бруно было бы лучше внимательно почитать Стагирита. Но, так или иначе, а вскрыть противоречия вульгарного перипатетизма представлялось необходимым. Крайняя онтологизация логических различений стояла на пути всякой конструкции мира. А борьба с крайностями естественно приводила к отрицанию за различием между формою-актом и материей-потенцией всякого онтологического значения, что, как ясно будет из дальнейшего, последовательно провести не удавалось.
Решение проблемы вытекает само собой. — Материя и форма различимы лишь логически. По существу обе — одно и то же, одна действительность, материя-форма. Эта «субстанция вещей», сущность всегда пребывающая самою собой, и есть сущее, «потенция и акт в одно и то же время». Как
Стр. 184
материя, она не ищет форм и не ждет их, но изводит их из себя и, следовательно, в себе их содержит или ими обладает; она и есть эти формы. Так Бруно приходит к Первоначалу, которое вечно и не подвержено порче, изменению или разложению, т. е. совершенно, к «божественному бытию в вещах», «un esser divino nelle cose», или «внутреннему формальному началу, вечному и сущему». Его находим мы во всех вещах, как «универсальный физический агент», «efficiente fisico universale», и «первую или начальную способность» (или «возможность» — «facolta»), «вселенский ум». Оно, с одной стороны — материя и потенция, с другой — «истинный акт и истинная форма всех вещей»; «душа… мира и формальное, конститутивное начало вселенной», «жизнь, пронизывающая все». Первоначало, «так есть форма, что не есть форма, и так материя, что не есть материя, … ибо оно все безразлично (indefferentemente), «единое, в коем согласуются потенция и акт». Первоначало можно считать и формою-актом и материей-потенцией, но оно выше этого различия, выше противоречий душевного и телесного, органического и неорганического. Оно — «то, что есть все и что может быть в абсолютном смысле. Противное и противоположное в инаковом есть в нем одно и то же». Абсолютная возможность (posse) совпадает с абсолютною действительностью. «Абсолютная возможность, чрез которую вещи актуальны, не первее, чем актуальность, и не после ее. Возможность бытия существует вместе с актуальным бытием, а не предшествует ему». «В этом учении», говорит Бруно, «нет недостатков, а потому очень оно мне приятно». И как увлекательна «глубокая магия извлечения противоположностей, после того как найдена точка единства. К ней стремился мыслью бедняга Аристотель, предполагая лишенность порождающею, отцом и матерью формы, но он не мог ее достичь. Не мог он дойти до цели, потому что, остановившись на роде противоположного, завяз в нем и, не нисходя в противоположности, не достиг цели, не вперил в нее очей, а стал бродить вокруг да около,
Стр. 185
утверждая, будто противоположности не могут актуально совпадать в одном и том же субъекте». К основной интуиции совпадения противоположностей можно дойти только путем Их отрицания. Но ведь это путь уже указанный Николаем Кузанским, как указана им же и цель всего пути — «Possest».
Первоначало Бруно принципиально отлично от «нечестивых элементов» Демокрита, скорее сближаясь и первоначалом стоиков, оно — и ум и вещественность, и акт и потенция, и форма и материя. Оно едино, истинно первоначально, т. е. самодовлеет, полно и совершенно, а потому вечно и неизменно. Как абсолютная возможность-действительность — вспомним снова Кузанца, — оно наибольшее, Maximum, в котором, именно как в наибольшем, совпадают противоположности. Но оно и наименьшее, Minimum; и «в наименьшем, в монаде или атоме, совпадают потенция и акт, сливаются противоположности. «В монаде и атоме прямое и кривое суть возможность и простой акт, коим они одно и то же. Круг-монада развертывает (explicat) все роды (genera), и круг же, как простой центр, всех в себе свертывает (implicat), будучи тем, чем быть может».
По первому взгляду кажется, будто Бруно просто повторяет идеи Кузанца. На самом деле — он вносит в них некоторые весьма существенные изменения. Он верен себе и держится в границах природы, — От видимого разъединения формы и материи Ноланец подымается к «Possest», как первосущности или первоначалу. Но это первоначало вполне имманетно, целиком дано, хотя и абсолютно. Оно понимается, как актуальная бесконечность, необходимо мыслимая в противопоставлении потенциальной. Поэтому полнота бытия, достижимая лишь в совпадении той и другой, не выражена в актуальной-только и «абсолютное» оказывается обедненным. Абсолютное Бруно не «complicatio omnium», как у Николая Кузанского, а только противоположная «explicatio» комплицитность второго порядка или, несколько уточняя терминологию, «implicatio». — Разница первостепенного значения, «complicatio = implicatio + explicatio» и
Стр. 186
не нуждается в «explicatio», ее в себе содержа; напротив, implicatio (или complicatio второго порядка, «стяженное единство») необходимо предполагает «explicatio», и без нее cyщecтвовать не может. Там, где у Кузанца дана идея «infinitum» или абсолютного (впрочем, иногда смешивает эти понятия и Николай Кузанский) у Бруно мы находим «trans-finitum», без «indefinitum» не существующее. Это совершенно ясно из приведенного уже нами уподобления «монады» кругу. Но совершенно очевидно, что актуальная бесконечность сама по себе не есть абсолютная бесконечность и безграничность, как на то указывают и конкретные примеры или проявления ее, например — круг. Она нуждается в потенциальной бесконечности или индефинитности своей, в экспликации. С другой стороны, и простое единство импли-цитности и эксплицитности тоже не может быть абсолютным: этому препятствует реальная раздвоенность их и несовершенство caмой эксплицитности. Поэтому, когда Бруно называет свое Первоначало сразу и «абсолютнейшим актом» и «абсолютнейшей потенцией», он, поскольку мыслится при этом реальная зксплицитность мира, не точен, поскольку же отвлекается от реальности — говорит об «infinitum» или абсолютном, сам того не замечая. Он не имеет права признать свое первоначало самодовлеющим, т.е. истинно бесконечным, бecконечным абсолютно, и совершенным, а, следовательно, вечным и неизменным. И если все таки эти acпекты первоначала пред ним всплывают, то лишь потому, что он не только философ, а и теолог, т. е. обладает интуицией трансцендентного или частично вмещаемого миром. В одной идее Бруно сливает две — трансфинитность и инфинитность, имплицитность и комплицитность. Последствия этого ясны. — Абсолютное, как «infinitum», содержит в себе все и не нуждается в «indefinitum» или эксплицитности. действительно вечное, самодовлеющее, совершенное, Maximum и Minimum. Но абсолютное в то же время мыслится и как «transfinitum» или имплицитность, необходимо предполагающее эксплицитность или «indefinitum» и без него не су-
Стр. 187
ществующее, а, следовательно, его оправдывающее. Поэтому реальная эксплицитность должна вызвать к себе двойственное отношение: то она будет реальным аспектом или модусом Первоначала (когда оно отожествляется с имплицитностью), то ненужною и непонятною иллюзией, акциденцией (когда Первоначало отожествляется с абсолютным или infinitum). В этом и заключается философская трагедия Бруно, метафизическое выражение отмеченной уже нами гносеологической неясности и недоуясненности основной интуиции, прослеживаемое во всем философствовании Ноланца.
Теперь мы можем продолжить прерванное изложение системы Бруно, которое должно оправдать высказанные сейчас соображения.
«Вселенная (l’universo), будучи великим подобием, великим образом и перворожденной природой, так же есть все, что может быть чрез посредство тех же видов и первоначальных членов и чрез содержимость в ней всей материи, к которой ничего не присоединяется и от которой ничего не убывает, всей и единой формы. Но вселенная не есть все, что может быть, чрез посредство тех же различий, модусов, свойств и индивидуумов. Поэтому она только тень первого акта и первой потенции. И постольку в ней потенция и акт не то же самое, ибо ни одна часть ее не есть все, что может быть». Мысль ясна. — Абсолютное не что иное, как актуальная бесконечность; вселенная — бесконечность потенциальная, бесконечная в возможности, но не в действительности. Во вселенной Бруно усматривает своего рода внутреннюю ограниченность, незавершенность. Встает только вопрос: почему же «вселенная» незавершена, ограничена и почему она все же относительно завершена, «unitas contractа»? Вопрос этот должен остаться без ответа, пока абсолютное отожествляется с актуальной бесконечностью: ограничение абсолютности делает невозможным объяснение ограниченности относительного.
Во вселенной, как потенциальности, неизбежно различение акта и потенции, формы и материи, и Бруно, сам
Стр. 188
того не желая, восстанавливает аристотелизм. В аспекте «свернутости» акт и потенция не соотносительны, а скорее — «синонимы», различаются не существенно, а в нашем восприятии. Наоборот, в «развернутости» «потенция не равна акту, ибо он не абсолютный акт, но органиченный, как и потенция всегда ограничена одним актом, обладая видовым и частным бытием». Следовательно, надо различать «формальный принцип всякой естественной вещи» или «субстанциальную форму», «неразложимую и неуничтожимую, как материя, от которой она неотлучима и неотделима», и «акцидентальные формы», изменчивые и преходящие. Вторые — только проявления или модусы бытия первой, т. е. бытия формально-материального Первоначала. Если в интеллигибельном (но вовсе не духовном, а духовно-вещном) бытии, в «первом и наилучшем начале», все «как бы свернуто, объединено и едино», в нашем бытии все развернуто, эксплицировано, рассеяно и умножено.
Как же объяснить эту эксплицитность нашего мира, расхождение формы и материи, дуализм эмпирии? Бруно ощущает всю трудность проблемы, связанную с трудностью постижения самой комплицитности, и ему ясна неустранимость эксплицитности эмпирии. «Этот абсолютнейший акт, который то же самое, что и абсолютнейшая потенция, не может быть постигнут умом иначе, как чрез отрицание. Не может, говорю, он быть понят: ни — поскольку он может быть всем, ни — поскольку он есть все. Ибо, когда ум хочет понять его, ум начинает образовывать интеллигибельные виды, уподобляться, соразмеряться и приравниваться ему. Но это невозможно, так как ум никогда не таков, чтобы не мог он быть больше, абсолютный же акт, будучи во всех отношениях безмерным, не может быть большим. Итак, нет взора, который бы приблизился к нему, которому бы открыт был доступ к такому возвышеннейшему свету и к такой глубочайшей пучине». Естественно, всякое объяснение может быть только приблизительным. Очевидно одно: нельзя преодолеть дуализма эмпирии простым признанием ее иллюзией
Стр. 189
и отрицанием реальности материи и формы. Далее, различия проистекают не из формы и не из материи, а из формы-материи или Первоначала. Само абсолютное внутреннею своею энергией разворачивается и раскрывается, переходя от единства во множество, от однородности к разнородности, от материи-формы к разделенности материи и форм. Монада умножается, повторяя себя самое. Но что-либо из двух. — Или абсолютное является полнотою единства формы и материи и не может быть относительной актуализованностью, а относительной актуализованности вообще нет. Или же она есть, но тогда уже не может быть абсолютным.
«Признайте, все то различие, какое вы видите в телах: в образовании их, сложении, фигурах, цветах, в других частных и общих свойствах, не что иное, как другой модус той же субстанции, скользящий, подвижный, подверженный порче лик недвижного, пребывающего и вечного бытия, в котором находятся все формы, фигуры и члены, но неразличенные и, как бы, скученные, словно в семени, где рука не отлична от кисти руки, туловище от головы, нерв от кости». Но как же абсолютна эта субстанция, если в ней нет того, что обнаруживается в ином ее модусе? и как она абсолютна, раз один из ее модусов — преходящее и подверженное порче? Бруно с разных сторон подходит к проблеме, пытаясь ее выяснить. Он указывает на аналогию точки, движением своим создающей линию, уже пространственную и количественно измеряемую. Но почему точка движется, не объясняет. Он говорит об единице или монаде, которая повторяясь производит ряд чисел и различные числовые величины. Но почему монада начинает повторять себя, объяснить не может. То он приближается к постижению истинной комплицитности, подчеркивает «совладение пpoти-воположностей и утверждает, что точка и стоит и движется, единица и молчит и повторяет себя, абсолютное и свернуто и развернуто, актуально обладая противоречиями, то, почувствовав неадекватность развернутости свернутому состоянию, он склоняется к отрицанию первой. — «Все
Стр. 190
создающее разнообразие родов, видов, различий, свойств, все рождающееся и разлагающееся, изменяющееся и становящееся иным — не сущее (ente), не бытие (essere), но условие и обстоятельство (condizione е circostanza) сущего и бытия, которое едино, бесконечно, нeизмeннo, субъект, материя, жизнь, душа, истинное и благое… После глубокого умозрения находим, что все создающее различие и число — чистая акциденция (е рurо accidente), простая фигура, простое сложение… изменение (alterazione), субстанция же всегда пребывает тою же самой, ибо она одна, божественное, бессмертное сущее». Taким образом нет множества различных субстанций, но все вещи составляют одну субстанцию, проявляющуюся во множестве индивидуальных форм, благодаря чему создается в и д и м о с т ь множества субстанций. «Различие между вселенной и вещами вселенной таково. — Вселенная объемлет все бытие и все м о д у с ы бытия (i modi di essere); из вещей же вселенной каждая имеет все бытие, но не все модусы бытия», в чем и заключается принцип экс-плицитности. Следовательно, и каждый индивидуум, нaпpимep, — любой человек не отдельная субстанция,но единая всеобщая субстанция в особом только проявлении и отличности. Во множестве людей проявляется человечество, во множестве животных — животность и т.д. Ряд акциденций создает в и д и- м о с т ь множества; столь же видимо и мнимо, не касается самой сущности постоянное изменение: возникновение, прехождение и исчезновение а к ц и- д е н т а л ь н ы х форм. «Все вещи обладают душой, обладают жизнью по субстанции, а не по акту и действию». А, следовательно, — неожиданное «следовательно»! — всякая вещь неизбежно становится другим, принимая различнейшие формы. Так, ценность и даже реальность индивидуального бытия исчезают, утопая в абсолютном. Но рядом с этим стоит утверждение того же самого индивидуального в идее комплицитности, вновь обращающееся в отрицание, потому что э м п и р и ч е с к а я эксплицитность несовместима с идеей абсолютного.
Стр. 191
Первоначало изводит из себя все формы или образует материю. Но оно действует извнутри, как внутренний, формальный и вечный принцип. В этом смысле оно но только «causa formalism и «causa materialis», но и «causa efficiеns», действующая или производящая причина, только действующая не извне (каково обычное понимание), а изнутри, не отъединенно от своего действия, но в самом действии, как само производимое. Первоначало — «действующая причина или вселенский физический деятель», «causa effectrice о efficientc fisico universale». Одним словом в системе изложенных нами взглядов исчезает всякая возможность установить р е а л ь н о е различие между причинами формальной и материальной, с одной стороны, действующей, с другой. Это различие тоже становится чисто логическим. Но с помощью его мы можем отчетливее выделить в Первоначале его внутреннюю деятельность, образующую и различающую. Эта деятельность аналогична художественной и не может не быть разумно-сознательной. Следовательно, необходимо мыслить Первоначало еще и как душу и как ум. Первоначало — «художник, прирожденный материи», заключенный внутри ее, с нею единый, «ум, дух, душа, жизнь, проникающая все. Оно во всем и движет всею материей, наполняет лоно ее». Оно — «Iъintelletto universale», «mens insita omnibus». Можно назвать этот Ум причиной действующей и, следовательно, как будто отличной от создания, как единое целое от части. Но по существу Он — причина имманентная, внутренняя. «Одною и тою же силою и непорочностью сущности во всем и везде, однако — сообразно порядку вселенной, и членов ее, как первых, так и последующих, здесь Он развертывает только ум, чувство, питание; там — несовершенное смешение, там, проще, — начало смешения! Так из корня подымается ствол; ствол изводит из себя сучья; извнутри сучьев выростают ветви, изводящие листву и плоды».
Допустим, что Ум м о ж н о мыслить, как «artefice interno». Еще вопрос, д о л ж н о ли его так мыслить, и со-
Стр. 192
ответствует ли логическое различение чему-нибудь реальному. По-видимому, нет. Во всяком случае, такое реальное самобытие Ума у Бруно не обосновано. И, тем не менее, Бруно, как видно из его заявления во время процесса ясно что «душа» или «провидение» — «тень и след Бога» и, как таковая, отлична от самого Божества, находящегося не только во всем, но и надо всем. — Идея Ноланца шире его «философии» и «философски» не обоснована.
Признав в Первоначале действующую причину, а в ней универсальный интеллект, мы тем самым отожествляем Первоначало и с причиной конечной или целевой, «causa finalis». Действительно, рассматривая наиболее напоминающую деятельность «Вселенского Ума» деятельность художника» мы легко убеждаемся в том, что даже создание безжизненного, мертвого художественного произведения сопровождается некоторым умственным процессом (non essere senza discorso intellecti), некоторою руководящего им целью. Насколько же выше подобной целевой деятельности должны мы себе представлять деятельность «Двигателя и Измыслителя вселенной»! И Бруно видит цель созидающей деятельности Первоначала, созерцая стройное целое вселенной. Эта цель заключается в совершенстве всеединства, в том, чтобы стали действительными все формы во всей материи. И бесконечный Ум так услаждается своею целью, что не устает изводить все новые и новые формы из лона материи, не истощается, бесконечный, в бесконечном самораскрытии.
Но если Ум бесконечно изводит, а изводимое Им реально, мы опять в области дурной бесконечности и Ум вовсе не абсолютен. Если же Он уже извел, как бесконечность актуальная, не прекращая, как потенциальная бесконечность, изводить, Он тоже не абсолютен именно в силу вечной своей потенциальности. — Перед нами прежнее основное противоречие системы. А к нему присоединяется полная необоснованность реального (а не логического только) бытия Ума в Отдельности, что связано с тою же неотчетливостью в различении видов бесконечности.
Стр.193
Как бы то ни было, для Бруно четыре причины перипатетиков сливаются в понятии единой, но четыревидной причины, единого Первоначала, совмещающего в себе потенцию и акт, материю и форму, действие и цель, в понятии единой рождающей и порождаемой Природы.
19. Благодаря невыясненности основной точки зрения Бруно и постоянным колебаниям между идеями абсолютного и актуальной бесконечности, причем ни одна из этих идей не уяснена до конца, чрезвычайно трудно дать стройный очерк «ноланской философии». Приходится все время считаться с вырывающимися на поверхность системы противоречивыми моментами основной интуиции.
Вселенная представляет собой единство, проявляющееся в текучей развернутости эмпирического мира и в свернутости его, в которой противоречия совпадают. Она едина в обоих модусах своего бытия, в индефинитности и трансфинитности, и в их единстве. Но тут то и встает вопрос: А что такое это их единство? Оно мыслится Бруно иногда как простая, если можно так выразиться, сумма индефинитности с транс-финитностьго, иногда, как само абсолютное. В первом случае всеединство оказывается незавершенным и в своей потенциальности (как неполная эксплицитность или частичное единство эмпирии, «unitas contracta») и в своей актуальности (как актуализованность предполагающая эксплицитность, т. е. эксплицитного не содержащая). Во втором — всеединство, понимаемое в смысле комплицитности абсолютной, т.е. отрицающей противоречие актуальной и потенциальной бесконечности, делает непонятною эмпирическую эксплицитность, требуя признания ее иллюзорной акцидентальностью.
Смешивая в одно оба понимания всеединства, Бруно считает возможным говорить о своего рода центре или существе всеединства, предстоящем нашему уму, как Первоначало, в действии или созидании эксплицитной эмпирии — как Вселенская Душа. Она ощущается им объективно-реальною
Стр. 194
только потому, что всеединство отождествляется с противостоящей эмпирии абсолютностью, но в силу отождествления абсолютного с тою же эмпирией он признает эту Душу противостоящей миру лишь акцидентально, а не по сущности. С одной стороны, Бруно уподобляет Душу корабельщику на управляемом им корабле; с другой — сводит на нет такое уподобление. «Душа вселенной, поскольку она одушевляет и оформляет, — внутренняя и формальная часть вселенной; но, поскольку направляет и правит, она не часть, а имеет значение начала, причины». Все во всем, все живет единою жизнью; и эта жизнь — единственная действительность. Но так как эмпирия тaкой действительности не являет, Вселенская Душа не только во всем, но и над веет, превыше всего, что, однако, еще не делает ее трансцендентной, ибо cyщностно она все. Но тогда почему она превышает все и какова реальность акцидентального бытия?
Для ф и л о с о ф а Вселенская Душа, думает Бруно, и есть Бог. «Бог — вселенская субстанция, в бытии коею есть всяческое, сущность — источник всякой сущности, коею есть то, что есть, «внутреннейшая всему сущему (intima omni enti) более, чем может быть внутренней каждому его форма и его природа. Ибо, как природа каждого — основание его бытийности (entitatis), так и глубже: основание природы каждого есть Бог. А потому хорошо сказано: — В Нем же живем и бодрствует, и есмы -, ибо Он жизнь жизни, бодрствование бодрствования, существование сущности». В этом Своем модусе Бог — абсолютное, простое, недвижное, совершеннейшее существо. «Он недвижно соделавает подвижное, вечно — временное». И от Божества, «центра всех природ», от «монады», «происходит другая монада или природа, вселенная, мир, в котором Оно созерцаемо и отражается, как солнце в луне». И здесь и в ряде других высказываний Бруно мыслит Бога внешне миру — как «бесконечный дух, все проникающий, объемлющий и содержащий», как Истину, «коею все истинно, ибо, если бы Бог не был истинно, ничто не было бы истинным», как Благо,
Стр. 195
коим вce благо, ибо «все создано так, что никоим образом не могло быть устроено лучше», как усовершающую все Волю, имеющую цель свою в себе самой. Бог — «устроитель над всяким и вне всякого строения», «ordinator supra et extra omnem», «monas ordinatrix». И в этой связи приобретают особенный смысл и особенную значительность указания на нeпocтижимocть Бога, совмещающего в Себе противоречия, на его неименуемость и недоступность нашему уму.
«Втекает Бог чрез природу в разум; разум чрез природу подъемлется в Богa. Бог есть любовь, созидающая ясность, свет; природа — любимое, предмет, огонь и пламенение. Разум любит; он — некий субъект, возжигаемый природой и озаряемый Богом». Но если Бог «выше и вне всего», то «нет ничего вне Бога». Он — «творец (auctor) природы; природа же или — сам Бог или — Божья сила, явленная в вещах». Мысль Бруно колеблется между теизмом и пантеизмом, иногда стремясь найти какое-то среднее понятие, иногда склоняясь то в одну, то в другую сторону. «Ум», повторяет Бруно Николая Кузанского, «надо всем есть Бог; ум всеенный во все — природа. Бог вещает и устрояет; природа исполняет и делает… Бог — монада, источник всех чисел, простота всякой величины и субстанция сложения, превосходство над всяким моментом, бесчисленное, бессмертное; природа — число счислимое, измеримое, момент достигаемый (momentum attingibilis)». И рядом с этим, — «Если Бог не сама природа. Он, конечно, природа природы; и Он — душа души мира, если не сама эта душа». И еще определеннее — «Природа — Бог в вещах», как выразился Авицеброн; Бог — «внутреннее начало движения, что и является природою в собственном смысле».
Как же тогда установить различие между Богом и Природой? — «Вселенная, говорит Бруно, не актуализованная Природа, все, чем она может стать на деле и сразу; но в своем развитии в каждое данное мгновение, в отдельных своих действиях и частях, свойствах и единичных существах, вообще в своих
Стр. 196
внешних проявлениях, она лишь тень Первоначала». Является искушение противопоставить Бога вселенной, как бесконечное конечному, но Бруно тотчас же его отстраняет. Повторяя и несколько упрощая Кузанца, он пишет: — «Я признаю вселенную всем бесконечным, ибо нет в ней края, предела, поверхности; и я признаю вселенную не всецело бесконечною, ибо каждая ее часть, взятая нами, конечна, и из бесчисленных содержимых ею миров конечен каждый. Я признаю Бога всем бесконечным, ибо весь Он во всем мире и в каждой части его бесконечно и всецело. Этим отличен Он от бесконечности вселенной, которая всецело во всем, но не в частях своих (если только можно их по отношению к бесконечному называть частями), каковые мы можем в ней постигать». Здесь, по-видимому, ясно проведено различие между абсолютно-бесконечным и потенциальной бесконечностью, но зато выпало понятие бесконечности актуальной, отожествляемой с абсолютным. Вселенная не бесконечна во всех отношениях, а только безгранична так сказать внешне. Она — «unitas contracta in pluribus», бесконечная, но не «totalmente». Но в таком случае ее невозможно отожествлять с абсолютным, не делая относительным его или не отрицая реальных свойств ее. И нельзя уже тогда говорить о «частях» вселенной, что чувствует и сам Бруно — «se рur, referendosi ailъinfinito, possono esser chiamate parti». Можно сказать, что всякое утверждение абсолютности или надмирности Бога, как отрицание бесконечности вселенной, уже выходит за границы, которые Бруно поставил философии. И внутренним противоречием, не устранимым простою ссылкою на совпадение противоречий, потому что такая ссылка должна быть эмпирически мотивирована и утверждение выставляется в сфере философии, звучат слава Ноланца: «Итак, Совершенное просто, и чрез себя и абсолютно есть единое бесконечное, более которого ничего быть не может, ни — лучше. Оно едино и везде все, Бог и вселенская природа». Не избавляет от этого противоречия, как показано выше, и простое различение эксплицитности и имплицитности, как
Стр. 197
относящееся к актуальности и потенциальности бесконечного. — «Единство есть имплицитное бесконечное; бесконечное — эксплицитное единство», «lъunita е uno infinito implicito е lъinfinito е lъunita explicita».
Чтобы выяснить происхождение эксплицитности необходимо найти принцип ее в абсолютном. Повидимому, с помощью этого принципа можно, не умаляя абсолютного, обосновать реальность относительного. Бруно идет (но неудачно) по пути искании такого принципа в своем учении о «maxima» и «minima». — Вслед за Николаем Кузанским он понимает абсолютное бытие или Бога, как совпадение противоположностей, что предполагается — мы уже знаем — идеею инфинитности Божества. Обосновывая совпадение противоположностей, Бруно повторяет Кузанца и обращается к математическим фактам и понятиям, с которыми определеннее и резче, чем Кузанец, соединяет факты физические. Не ограничиваясь мыслью о тожестве покоя и движения, он вплетает в абсолютное единство еще и тожество формы или духа и материи, В пределе совпадают прямая и ломаная, прямая и кривая, тупой и острый углы. Рассматриваемый в отношении своем к бесконечно-приближающимся к нему вписанным и описанным многоугольникам круг является их пределом, их актуальною бесконечностью (неудачный пример Николая Кузанского). При бесконечности увеличения или уменьшения сторон такого многоугольника он совладает с кривой окружности став точкою; как и окружность совпадает с нею при своем бесконечном уменьшении или увеличении. Но мы можем иметь в виду не окружность или круг, как актуальную бесконечность приближающихся к ним периметров многоугольников или самих многоугольников. Можно понимать предел, как нечто не совпадающее ни с кругом ни с многоугольником, а как предел их обоюдного движения; и такое понимание приводит нас к идее инфинитности, В этом случае мы должньг сказать, что в пределе бесконечного увеличения и прямой и кривой, и многоугольника и круга, они совпадают, точно так же, как и в пределе их бесконечного
Стр. 198
уменьшения. В таком смысле, конечно, и надо толковать «coincidentia oppositorum» у Кузанца. Потому minimum и rriaximum являются непостижимыми (infinitum). Будучи геометрическими принципами, рассуждает Бруно, maximum и minimum в области абстрактно-философского умозрения совпадают, должны они совпасть и в геометрии. Однако, следует различать истинный или инфинитный предел (minimum или maximum) от предела актуального (например, от круга). Только второй поддается нашему определению: первый неопределим, как истинное совпадение противоположностей. Второй, в силу самой определимости своей множествен: существует много актуальных бесконечностей (например, окружность, единица); первый представляет собой единое бытие, абсолютное всеединство.
Бруно знает это. «Не без причины принимаем мы два вида малейшего, ибо есть малейшее (minimum) просто и абсолютно, каковое должно быть однородным (unius generis), и есть малейшее гипотетически или предположительно или относительно (hypothesi seu suppositione respectuque minimum), которое устанавливается различным сообразно различию субъектов и цели (finis)». Первое «minimum» Бруно называет «minimum reale» или «minimum naturae». Оно совершенно нечувственно и неопределимо: «non est ullius artis definiri». Однако, здесь Ноланец допускает любопытное и показательное для нас смешение понятий, — У всякого рода есть свое minimum; так можно говорить о малейшем быке, о малейшей мошке, о малейшем теле. Все это относительные minima, к которым относится и п р о с т р а н с т в е н н ы й атом. Но ведь в том же самом смысле относительным «mini-mum» будет minimum геометрический, minimum арифметический, физический (даже, если он не пространствен). В каждом из них есть некоторая определимость и определенность; и ни один из них не должен быть отожествляем с «minimum reale seu naturae».
Бруно различает minima: геометрическое, арифме-тическое и физическое. Он предполагает вместе с Демокри-
Стр. 199
том, что тела состоят из атомов или минимумов, слагающих сначала «чувственные атомы», «minima sensibilia», а из них уже все вещи. И видимо, «minimum sensibile» далек (multum abstat) не только от «minimum naturae» но и от «minimum physicum». Если далее обратиться к арифметике, то следует признать, что все числа слагаются из «minima mathematica». Только здесь уже очевиднее, что надо говорить не о «minima», а о «minimum» или «monas». Монада, не будучи сама числом, образует все числа. Монада предел бесконечного ряда чисел (актуальная бесконечность), но не только предел, а и «principium numeri», создающее и конституирующее всякое число.
«Нет пред тобой монады — не будет числа никакого».
«Esto nulla monas, numerorum non erit ullus».
«Возьми прочь монаду, и нигде не будет числа, ничто не будет счислимым, не будет никакого счислителя». Монада субстанция и сущность всякого числа, «substantia numeri et essentia omnis»; — число «акциденция монады».
Учение о minimum и maximum — начало и математики и метафизики. «Ignorantia minimi facit geumetras huius saeculi esse geametras et philosophos — philasophos». Ho что же такое геометрическое minimum?
Бесконечная прямая есть круг, ибо она периферия при бесконечном диаметре. В ней начало не иное, чем конец, ибо везде центр. Следовательно, она — «бесконечный центр; и то же самое центр, диаметр и окружность». «Бесконечный круг и бесконечная прямая, также бесконечный диаметр, поверхность или площадь, центр и все иное не различествуют, как не различествует все это и в точке, которая и есть наименьший круг». Но если тождественны в пределе дуга и хорда, периферия и диаметр, этот предел не может быть чем-то определенным и качественным. Он — «coincidcntia oppositorum». Его можно назвать «minimum», но он в то же время, как показывают те же самые геометрические
Стр. 200
факты, и «maximum»: «maximum nihil aliud est, quam minimum». Однако Бруно определяет «minimum». «В чем нет фигуры, то не наималейше, говорит он. Наималейшее первоначально и просто — круг». Это определение возможно, если смешиваются понятия актуальной и абсолютной бесконечности, бесконечности и предела. Смешение же их тем естественнее, что актуальная бесконечность заключена в каждом моменте потенциальной, и, например, круг заключается некоторым образом в каждом из стремящихся к нему многоугольников. Но если круг может быть еще понят (хота и не вполне точно), как принцип или начало многоугольников, невозможно считать его же началом или совпадением противоречий для острого и тупого углов, для прямой и кривой, тем более для всего многообразия планиметрических противоречий. Равным образом шар нельзя считать принципом стереометрии. Одним словом, minimum как «concidcntia oppositorum» есть нечто бескаче-ственное, неопределимое. При недостаточном различении трансфинитности и инфинитности, Ноланца практически сбивает точка. Она представляется ему как бы единством потенций, а может быть и комплицитностью всех линий, поверхностей, объемов. И желая представить себе ее зиждительную деятельность, он становится уже на иную почву. — «Точка, ускользая от бытия точкою (scorrendo da esser punto) делается линией; ускользая от бытия линией — делается поверхностью; ускользая от бытия поверхностью, делается телом. Поэтому точка, как находящаяся в потенции бытия тела, не отличается от бытия телом; в ней потенция и акт одно и то же». «Линия не что иное, как точка в движении, поверхность — линия в движении, тело — поверхность в движении». Допустим, что это утверждение примиримо с другим: «Figura minimi plani est circulus, minimi solidi globus».
Таким образом, «minimum» получило определенность в геометрии. Этим самым дана возможность определенности его в физике. — Minimum, как сфера или «globus» совпадающий для Бруно с «circulus» — «simpliciter minimi est una
Стр.201
figura circulus atque globus», оказывается тожественным атому»
«Круг для них (т. е. фигур) первый корень, форм
создатель, явитель…
Он их всех превыше один, объемлет, обходит,
Недр касаясь, он полнит их, мерит, равняет.
Он изводит исток, как первый родитель, фигуры».
«Cyclus ad has (i. е. figuras) prima est radix, formator
et index…
Qui omnes unus superat, complectitur, ambit,
Intusque attingit, replel, metitur, adaequat.
Нас de fonte fluunt, primoque parente, figurae».
Minimum, о котором говорит Бруно, и в применении к геометрии и в применении к физике (minimum reale или атом) не является, следовательно, первоначальной «coincidentia oppositorum», а уже некоторою определенностью. Вслед за Кузанцем Бруно утверждает, что есть реальный предел деления: «начало и основание всех ошибок, как в физике, так и в математике, — бесконечное деление непрерывного». Перипапетики возражают, будто атомы, как не имеющие частей, не могут образовать пространственной величины: при соположении они совпадут. Но перипатетики не различают понятий «minimum» и «terminus». — «Minimum» есть первая часть пространства, всего сложного, и сам частей не имеет, «Terminus» или предел тоже не имеет частей, но он и сам не часть, а только разделяет две части. Поэтому два соприкасающихся атома создают предел или «terminus» своим касанием, и «terminus» их разделяет. Так поверхность разделяет тела, линия — поверхности, точка — линии. Из этих примеров очевидна разнородность «термина» и «минимума».
Итак, минимум-атом или физический минимум у Бруно, как и у Кузанца, не абсолютное, а реально-эмпири-
Стр. 202
чeское. — «В пределе (ad extremum) храним круглый вид (species rotunda) всего, обладающего фигурой: всякое наименьшее кругло. В круглое порядок природы или чувства разрешает все; время трением частей друг о друга делает шаpoвидным оставшееся и обтачивает далеко выдающиеся стороны. Все это, наконец, в наималейшем круге заставляет рассеяться то, чем отличается воспринимаемый очами его вид. Таким образом, у наималейшего вечно одна фигура». Минимумы не «vanae mathematicorum species», но вполне конкретные величины, образующие элементы, а из них все тела и находящиеся, как мы уже знаем, не в пустоте, а в эфире. Эти атомы все одинаковы и потому различия составляемых из них тел должны сводиться к количеству. Бруно представляет себе их, как шарики, «globus», что позволяет ему связать их с кругом. Круг и начало, и цель движения. По существу, «круг — все действия природы и всякое, какое бы то ни было движение. Так и движение элементов, если онo природно, тоже круг». Отсюда следует, что все тела в природе (в частности и главным образом — небесные тела) шаровидны, все движения кругообразны. Впрочем, надо помнить, что круг лишь предел, а потому для эмпирического бытия уместно говорить только о подобии кругу тел и орбит их движения. «Истинная сфера не чувственна и не может быть более чувственной, чем само неделимое природы; напротив, по многим основаниям, необходимо, чтобы чувственное было» в этом отношении «меньше», «менее совершенным»: «чувство не воспринимает истинного круга».
Еще один шаг. — Отожествленный с геометрической точкой (кругом и шаром) атом отожествляется и с монадою. Благодаря этому, найден принцип мира, «minimum» = «maximum», созидающее все, акт и потенция, форма и материя, дух и тело. Но как определенное и постижимое, монада должна быть признана актуальной бесконечностью, хотя бы она возвышалась даже над противоречием — minimi et maximi. Монада ясна, как предел всего сущего и как начало или принцип его, выражаемый всяким единичным бытием и дви-
Стр. 203
жущий его. Но монада не может быть сама принципом своей актуальной определенности и своей потенциальности. Она не совершенна, не абсолютна. Поэтому лишь условно можно назвать монаду «всем, бесконечным (infinitum), истинным, всяческим, благим, единым», наконец «Богом», Все «ех minimo, in minimum, ad minimum, per minimum» лишь в каком-то ограниченном смысле. Если же Бруно допускает такие определения без всяких дальнейших оговорок, то только потому, что отожествляет, как уже указано нами не раз, монаду и абсолютное. Поэтому с величайшей осмотрительностью надо отнестись и к пониманию им творческой деятельности монады.
Он не ограничивается утверждением, что монада ил «minimum» есть начало всего или первосубстанция, но, пользуясь подмеченным им в геометрии созидательным движением точки, старается начертать процесс экспликации. — Начало всего «монада монад» — «monadum monas una reperta est» — или Бог, «единство»,«субстанция» и «сущность вещей», «minimum». Как единство, не будучи числом, рождает единицу и всякое число, как точка рождает линию, линия поверхность, поверхность — трехмерное тело, так и монада рождает двоицу, троицу, четверицу, сама не чувственная — все чувственное. Но для того, чтобы понять это рождение или созидание, Бруно принужден мыслить монаду (точку, атом) уже как реальное совпадение противоречий, как неопределимое, т. е, выйти за пределы актуальной и потенциальной бесконечности.
«В простом, наименьшем, в монаде, противоположности суть одно и то же: равное и неравное, многое и малое, к о н е ч н о е и б е с к о н е ч н о е; поэтому наименьшее то же, что и наибольшее, что и все между ними находящееся»-Так мы приходим к Кузановской комплицитности; но можно ли тогда говорить, что монада — globus? В «монаде монад» нет пространственной определенности, нет «спереди» и «сзади», «справа» и «слева». Нет в ней никаких измерений, как ясно уже из приведенного текста, противоречий между
Стр. 204
широким и длинным, высоким и глубоким. Ее центр сразу во всем. Равным образом не приложимы к ней временные ограничения: различия «часа и дня, дня и года, года и века, века и мгновения», ибо ее характеризует «абсолютно бесконечная длительность», всегдашнее настоящее, не имеющее ни начала ни конца; «duratio est eterna а parte anteriori, ante hoc et post hoc et quodlibet temporis accipias instans». Начало e Монаде не отлично от оначаленного ею, форма от материи, акт от потенции. Как уже объяснил Николай Кузанский, в Монаде движение есть покой: эмпирические модусы ее состояния — единство. Точно также исчезают противоречия живого и безжизненного, души и тела, теплого и холодного, свободы и необходимости. «Развертывание наименьшего или распространение центра в окружность и есть рождение, а стяжение окружности в центр, говоря физически — смерть, математически же — установление или разъявление в едином, извращение (eversio) или сокровение в другом». Экспликация или развертывание является paзъединeниeм, но таким, «что каждое неделимое по существу» есть Монада монад или отражение, зеркало ее и всех прочих.
Итак, Монада монад создает все монады самоповторением. Но это понятно лишь в том случае, если она не комплицитность, а бесконечность актуальная. Если же она бесконечность актуальная, то непонятно само движение. Необходимо как-то уяснить себе связь между Монадой, как абсолютным и в качестве такового — принципом движения, объяснимого не из недостаточности, а из преизбытка (благости) ее, и монадою, как актуальностью, которая является сама по себе недвижным пределом, пребывающим в потенциальной бесконечности, и ограничена, а потому не первоначало движения и единства. Но раз сливаются понятия комплицитности и стяженного единства, необъяснимой оказывается и сама комплицитность.
Обычно Бруно включают в число «пантеистов» или, пользуясь более модным, но не лучшим термином — «монистов». Слишком поспешно, — Он достаточно часто и резко выдвигает надмирность Бога и ограничивает пантеистические
Стр. 205
порывы своей мысли. Делались и делаются попытки истолковать его систему в теистическом смысле. Без большого успеха. — Он часто и определенно подчеркивает единство Бога и Природы, их только модальное различие, Бруно не пантеист и не теист; однако не в том смысле, что он подобно Николаю Кузанскому стоит выше этих условных и не вполне ясных в обычном словоупотреблении терминов. Его учение не выше противоположностей, не в раю их совпадения) и полно внутренною трагической борьбой идей, из которых каждая ему дорога и близка, каждая необходима. Выражаясь нарочито резко, у Бруно две системы: одна с неизбежностью ведет к пантеизму, но наталкивается на теистическую идею, другая стремится к теизму, но останавливается в своем развитии пред пантеистическим моментом. Бруно пoпытался искусственно себя ограничить областью «философии», но остался внутренно более, чем философом. В этом ограничении первородный грех его системы, источник трагичности его попыток и, может быть, его жизни и конца.
20. «Конечность вселенной противоречит и чувству и разуму». Действительно, приближаясь к границе обозреваемого нами горизонта, мы видим, как она от нас удаляется, и не трудно убедиться в том, что на самом деле мы только передвигаемся вместе с центром нашего горизонта. Горизонт определяется центром, а центр совпадает с местом, в котором находится наблюдатель; и нет никаких оснований предполагать, что движение или перемещение этого центра где-либо прекратится. Даже если мы перенесемся на другую звезду, дело не изменится: мы только окажемся в ином центре, а на периферии нашего горизонта будет лежать земля. Безграничность пространства всегда побеждает наше чувственное зрение, число звезд смущает его и превосходит его силу. Чувство вынуждает разум все снова и снова присоединять область к области, мир к миру, пространство к пространству. Конечное пространство не представимо. А, следовательно, совершенно бесплодны и безнадежны поиски
Стр. 206
центра вселенной: понятия центра и периферии соотносительны и применимы лишь к частным конечным вещам, не к бесконечному пространству. И столь же условны понятия верха и низа. Нам сейчас кажется, будто луна наверху. Но если мы представим себе человека летящим на нее с земли, то жителям земли будет казаться, что он подымается вверх, жителям луны, что он падает вниз, к ним. У каждого ограниченного тела, у земли, у луны, звезды, есть свой верх и свой низ, как и свой центр. Но в безграничной вселенной нет ни верху, ни низу, ни центра. И только наша собственная ограниченность, да непривычка заставляют предполагать существование такого центра. «Мальчиком», говорит Бруно, «я думал, будто нет ничего за горой Везувием». Вселенную можно уподобить сфере, но лишь такой, в которой любую точку можно считать и центром и периферией.
Итак чувственный опыт доказать конечность мира не может. Если же обратиться к «условиям нашего понимания», «1а condizione del nostro modo di intendere», необходимость мыслить вселенную бесконечною станет ясной. Нет величины, больше которой мыслить уже нельзя, и «воображение не находит покоя, прибавляя количество к количеству… Невозможно не воображать вне мира нечто, будет ли это нечто пустым или наполненным». Ту же самую мысль с большей глубиной и осторожностью, хотя и более сжато, уже высказал Николай Кузанский. Ее же сделает предметом своей антиномии Кант, к которому в данном случае Бруно ближе, чем к Кузанцу. — Раз бесконечно пространство, «приемник тел, обладающих величиной», бесконечна и вселенная. «Если утверждающий, что мир бесконечен, спросит: — Где вселенная? Я отвечу: — В бесконечном пространстве. — Где бесконечное пространство? — Нигде, где только есть предел; везде беспредельно». — Бесконечность пространства уже свидетельствует о бесконечности существующего, ибо само то пространство, во всяком случае, существует. Но пространство вовсе не пустота: пустое пространство непредставимо, не реально, — его в природе нет; мы же ошибочно считаем
Стр. 207
пустым то, что не наполнено воспринимаемыми телами, например, воздух, эфир.
Но для Бруно главные доказательства бесконечности мира не сводятся к приведенным аргументам. Он обосновывает абсолютную безграничность вселенной тем самым, чем Кузанец обосновывал ее, относительную бесконечность, т.е. отношением между вселенной и Богом. Бесконечное Первоначало «должно было произвести вселенную или, лучше сказать, должно всегда ее производить бесконечной». Как «действие бесконечной причины и оначаленная», вселенная «по своей телесности и модусу должна быть бесконечно бесконечною». В качестве целевой или конечной причины Первоначало может раскрыть свое совершенство, т. е. развернуться, эксплицироваться, только в бесконечной вселенной. «Ради бесчисленных степеней совершенства, развертывающих Божественное бестелесное превосходство чрез моду телесности, должны быть бесчисленные индивидуумы, эти великие животные, одно из которых наша земля…; для содержания же их в себе потребно бесконечное пространство». Нельзя допустить, что Первоначало истощается — оно бесконечно; — или не желает раскрыться целиком — оно всеблаго. Но ведь бесконечность Первоначала является лишь постулатом, а всеблагость Его требует признания чего-то иного, т.е. реального различия между Ним и природой. К тому же — старый, знакомый нам вопрос — как объяснить или свести на иллюзию неполноту бесконечности вселенной, вытекающую из ее реальной эксплицитности?
Итак, вселенная бесконечна, во-первых и прежде всего потому, что она — развернутость бесконечного Первоначала, во-вторых, потому, что она бесконечна пространственна. (Разумеется, первое «потому» включает второе.) Ее пространственная бесконечность должна быть понята как вещественная, ибо в природе пустоты нет. Но как же нет пустоты, если все состоит из атомов? Должны же быть между-атомные пустоты, неизбежные при сферической форме
Стр. 208
атомов! — Бруно заполняет эти пустоты другим веществом, эфиром. Однако, тот же вопрос должен встать и по отношению к эфиру. Бруно устраняет подобное предположение тем, что признает эфир неосязаемой, пронизыващей и обволакивающей все первоматерией. «Эфир то же самое, что небо, пустота, абсолютное пространство. Он всеен в тела и, бесконечный, все тела объемлет». Эфир — единая, всепроникающая, непрерывная, «unum continuum», материя» первое обнаружение или первая дифференциация Первоначала, позволяющая утверждать о себе, что «все во всем». Предположить существование абсолютной пустоты, т. е. пространства не эфирного, по мнению Бруно нельзя. Тогда — приближается он к первой антиномии Канта — придется признать и конечность вселенной, А между тем конечны отдельные миры, составляющие вселенную, но не она сама. — Вселенная — «не только мир, а еще и пустота» (читай: «эфир»), незаполненное пространство вне мира, «незаполненное» чувственно-воспринимаемой материей, четырьмя элементами, но, конечно, заполненное материей первичной. Ведь, если бы существовала пустота, переходит к аргументам эмпирического характера Ноланец, тела падали бы и двигались несравненно скорее, чем то происходит на самом деле.
Будучи бесконечным материально-пространственным всеединством, вселенная приводится в движения своим Первоначалом, Вселенской Душой, которая, как мы уже знаем, по существу от материи не отлична и является душой душ. Это движение — наибольшее по своей скорости, т. е. бесконечно быстро, а потому является абсолютным покоем. Если нет во вселенной центра и периферии, то нет и абсолютного чистого движения. В целом она недвижна, а следовательно, и надвременна, вечна; но в частях своих, приводимых в движение индивидуализациями Вселенской Души или индивидуальными душами, она движется последовательно, т.е. временно. Таким образом о пространственном и временном перемещении во вселенной можно говорить лишь применительно к ее частям, к ее эксплицитности или разъединяющей
Стр. 209
индивидуализации. Но в этот отношении и смысле «все блуждает», «omnia migrant». В жизненном процессе простое слагает сложное, а сложное разлагается на составляющие его элементы, в конце концов — на минимумы-атомы. Мы видим такое всеобщее движение везде вокруг нас и по аналогии должны предполагать его и в прочих, неисчислимых неведомых нам мирах, во всех частях вселенной. «Со стороны бесконечности все недвижно, неизменно, не подвержено порче; но вo всем этом могут быть и суть движения и изменения, бесчисленные и бесконечные, совершенные и законченные». «Все — живое и неживое, люди, растения и животные, неодушевленные тела и элементы — одинаково подчинено закону движения». Неподвижность вселенной в целом очевидна и помимо принципа совпадения противоречий. Ведь вселенная бесконечна, а «бесконечное недвижно», «seipsum firmare dicitur». Куда, действительно, может двигаться бесконечное? В нем мыслимо только внутреннее движение, но и оно в бесконечной вселенной, т. е. истинно-бесконечной, в которой — «все во всем», бесконечно быстро или совпадает с недвижностью. Только умаление бесконечности (Бруно не говорит этого!) или разъединенность дает движение. Бесконечная вселенная недвижна; в бесконечной вселенной бесконечные по числу роды вселенной» (т. е. отдельные части ее) «подвижны».
«Никакой разум, никакое чувство не может указать начало движения и произрастания вселенной, ибо и в существующем движимое раньше движения, так как движется только то, что может двигаться, а движение ранее порождения движимого: рождается лишь приводимое из потенции акт». Иначе говоря, — движение необъяснимо из условий эмпирического бытия, являясь для нас голым фактом, а потому должно быть объяснено из Первоначала, как совпадения противоположностей. Первоначало же, как принцип движения, и есть Вселенская Душа, Бог или Природа. «Сильна Природа на то, чтобы могло постоянно двигаться тело ее, ибо ничто не противоположно душе мира» (т. е. из нее
Стр. 210
движение объяснимо), «так как она форма оформляющая». Если же мир извнутри движим Душой, бесконечно быстро в целостности своей, временно и неполно — в своих частях чрез посредство индивидуальных душ, то должны двигаться небесные тела: земли, планеты, солнца, заезды, кометы В отдельности своей подвижно все. При этом движение небесных тел, по теории минимумов кругообразное, но не круговое (что докажет читавший сочинения Бруно Кеплер), не ограничивается их обращением вокруг солнца и вокруг своей оси (последнее тоже не чисто кругообразно). Бруно расширяет понятие движения, сливая его с понятием возникновения, и принимая во внимание бесконечность мира во времени, утверждает, что постоянно возникают, слагаются и разлагаются все новые и новые небесные тела, новые миры. Равным образом и в малейшей чувственной части мира должен совершаться тот же процесс постоянного изменения.
Совершенно ясно, насколько вывод из основных предпосылок системы Бруно, интуитивно воспринявшего философский смысл теории Коперника, представляют собой благоприятную почву для развития нового, лишь теперь постигаемого нами в его ограниченности мировоззрения. Метафизика сливается с физикой, более определяющей первую, чем у Николая Кузанского. Идея Коперника урезавшего интуицию Kyзанца, смело расширена Бруно за пределы нашей солнечной системы на все миры вселенной. Охваченный «furore eroico», он разбил хрустальное небо Птолемеевской астрономии, и пред ним встала скоро открывшаяся и телескопам бесконечность мироздания. Идея единства мира и само неправомерное абсолютирование его позволили Ноланцу говорить о законах вселенной, а не только нашего мирка, утверждать, что и кометы однородны с прочими небесными телами, а наблюдаемая нами и теоретически Необходимая сложность состава земли заставляет предполагать такую же сложность всех планет и звезд, самого солнца. Бруно без труда опровергает возражения противников. — Если они указывают на предполагаемую системой Коперника
Стр. 211
быстроту движения земли, то Птолемеевская гипотеза требует еще больших, а потому и менее вероятных скоростей. Боятся, что путешествуя вокруг земли станут вверх ногами. Но ведь понятия верха и низа относительны; уместные в ограниченной системе или ограниченном теле, они не применимы к вселенной в целом. Боятся, что земля упадет. Но для вселенной понятия тяжести и легкости столь же относительны, как и понятия верха и низа. «Мы можем сказать: «Части земли возвращаются на нее в силу своей тяжести (per la loro gravita): это как бы стремление (l’appulso) частей к целому. Точно также и части других тел. А, разумеется, могут существовать бесконечные по числу другие земли или тела, подобные ей, бесконечные по числу другие солнца или тела подобной и той же природы. Отсюда следует, что существует бесконечное множество тяжелых тел; но не следует еще, что есть бесконечная тяжесть». Понятие тяжести уместно внутри вселенной, в применении к ее частям. Ни одно тело не является абсолютно тяжелым или легким, но тяжесть и легкость существуют в нем только по отношению к его частям. И то же самое рассуждение применимо к системе тел, как части вселенной. Все небесные тела «взаимно поддерживают друг друга посредством этой своей силы влечения». И если, например, комета попадает в место, равно удаленное от двух звезд, она должна остановиться, пока малейшее изменение в положении не заставит ее полететь к ближайшему миру.
В приведенных словах Бруно можно усматривать предвосхищение идей Ньютона. Может быть, еще существенней отметить признание в них относительности самого закона тяготения, не применимого к вселенной в целом. Еще более неожиданными кажутся дивинации Бруно, предвосхищающие открытие Кеплера и учения о форме земли. Весьма темно говорит Бруно о движениях самой земли. Кроме обращения ее в 364 1/4 дня вокруг солнца и в 24 часа «вокруг своего центра» — Галилей так же, как и Кеплер знал сочинения Ноланца, хотя предпочитал об этом не
Стр. 212
говорить — Бруно различает еще два движения, иногда сливаемых им в одно, третье. Это «полярное» и «полусферическое» движения. Достаточно компетентный в данном вопросе Скиапарелли считает возможным предполагать у Бруно смутную дивинацию совершаемого полюсами земли движения, так называемой нутации. Впрочем, она есть уже у Николая Кузанского.
21. Вселенная бесконечна пространственно и, что то же самое, материально. Она должна заключать в себе бесконечное множество солнц, называемых звездами и обращающихся «вокруг своего центра», как наша земля и наше солнце, и солнечных систем с землями, подобными нашей. И нет никаких препятствий, напротив, есть все вероятия к тому, чтобы допустить в этих мирах, даже в солнцах, жизнь, причем, конечно, огранизация обитающих иные миры существ соответствует месту их обитания и должна мыслиться лишь аналогичною нашей.
«Небо и мир одушевлены… Действительно, если есть душа и жизнь у этого низшего смешанногo и частичного, почему бы не быть им у вселенной?… На каком основании отвергнем мы жизнь земли и воды, которые рождают из себя, оживляют, питают и ростят бесчисленные растения? Каким образом жизнь от не живущих? Как не живущее производит жизнь?» Но, разумеется, Бруно вовсе не предполагает, что форма жизни только одна, такая как у нас, и что надо под одушевленностью подразумевать нечто тожественное нашей одушевленности. Жизнь и одушевленность одна, но формы ее обнаружения бесконечно многообразны и, утверждая Одушевленность, например, камня, не следует думать, будто в камне заключена человеческая душа. Душа или форма камня столь же отлична от нашей души, как инстинкт животных от нашего разума, и даже еще более.
Если все живет, то нет смерти. Вселенская душа, как развертывающая себя вселенная, — «начало движения», возвышающееся по закону совпадения противоречий над
Стр. 213
жизнью и смертью. «Жизнь — развернутое движение; смерть — движение свернутое». Смерть не что иное, как разложение сложного, и «ни одна вещь не уничтожается и не теряет бытия за исключением акцидентальной формы, внешней и материальной. А потому, как материя, так и субстанциальная форма, из коих слагается природная вещь — душа, неразложимы и неуничтожимы». Прекращается лишь «эта акциденция дружбы, согласия, сложенности, единения и порядка», сливающая в одно сложное целое простые элементы; но она прекращается для того, чтобы смениться новою. В себе самих мы наблюдаем вечный поток привходящих в наш организм и потом покидающих его элементов. И смерть только передвижение, изменение, разложение определенных частей, обновление их и соединение с другими. «Так текут к берегам и отливают от них волны моря». И это движение, господствующее во вселенной, не гибель. Гибнет лишь акцидентальное бытие, сущность же исчезнуть не может. «Страстно желают жить и боятся умереть те люди, которые не обладают светом истинной философии и не постигают иного бытия, кроме настоящего, думают, что не может сменить его другое. Они не достигли понимания того, что жизненное начало заключается не в акциденциях, возникающих из сложения, но в неделимой и неразложимой субстанции, которой — в ней нет смятения — нечего стремиться к сохранению себя и бояться рассеяния»… «Мудрая душа не, боится смерти; нет. — Иногда она даже ищет ее, стремится к ней навстречу. Всякую субстанцию содержит не длительность, а вечность, не место — безмерность, не акт — всеобразие (omniformitas)».
«Разве вы не видите, что бывшее семенем становится травой, из травы делается колос, из колоса — хлеб, из хлеба — желчь, из желчи — кровь, из нее семя, из семени зародыш, из него человек, из человека — труп, из трупа земля, из земли — камень или что либо иное?..» Жизнь «развертывание центра», «exglomeratio centri»; жизненный процесс — вечный круговорот, «circulus». Раскрывается
Стр. 214
в бесконечном множестве одновременных и послевательных индивидуаций единая душа. «В человеческом теле вся душа находится но всем теле и в любой части его; однако, не везде развертывает она всю себя, но в одном месте — душевно в другом — разумно, в третьем — жизненно, в ином — в низшем смысле, хотя все одушевлено умною душою и содержит ее всю. Так и Душа Мира и Дух Вселенной, так же тою же силою и непорочностью сущности находясь во всем и везде, сообразно строю вселенной и членов ее, как важных, так и второстепенных, здесь развертывает только интеллигенцию, чувство и жизнь, там — несовершенное смешение, там — более простое начало смешения». Душа словно корень, из которого подымаются ствол, сучья, листья и плоды, из которого подобно радиусам исходит жизнь всех органов и членов. Она — первый двигатель, первое внутреннее начало жизни. Проявляясь во многообразии жизни и в каждой частице. Вселенская Душа не ограничивает и не дробит себя. Нельзя сказать, что в данном индивидууме она частично проявляется, а частично пребывает сокровенно и потенциально. В виде и роде человеческая душа то же самое, что душа мух, устриц, цветов, одним словом — всех одушевленных cуществ, а в мире одушевлено все, всякое Тело причастно Мировой Душе. Но, соединяясь с тем либо иным телом, образуя его, Душа соответственно строению и составу тела, нуждается в разной степени разума и других способностей. Так дух или душа, которая находилась в науке и владела паучьими членами и способностями, вселившись в человеческое тело, ищет уже другого ума, других органов и деятельности. Если бы, например, голова змеи превратилась в человеческую, ее туловище стало таким же, как у нас, язык расширился, выросли плечи, появились руки и хвост превратился в две ноги, эта змея стала бы ходить, Дышать и даже думать, как человек, она бы стала настоящим человеком- Подобным же образом человек озмеившись стал бы шипеть, жить в пещерах, а не строить дворцы, думать и чувствовать по змеиному.
Стр.215
Перед умственным взором Бруно развертывается яркая картина единой и в конкретности своей многообразной вселенской жизни, объемлющей и связущей все, не мирящейся с условным делением мира на живую и неживую природу, на минеральное, растительное и животное царства. Он останавливает внимание на связи разных видов единой жизни, на их незаметных переходах друг в друга, словно — обуреваемый пафосом трансформизма. Он ищет промежуточные звенья между неорганическим и органическим, растениями и животными. И Бруно знает, что, «так как все причастно жизни, не только в нас, но и во всех сложных вещах живет бесчисленное множество индивидуумов». А как же столы, стекла, платья, сапоги? Неужели и они одушевлены? — В качестве столов, платьев, сапог и т.д. они, конечно, бездушны. Но, «как естественные и сложные вещи, они имеют в себе и материю и форму. И как бы ни была вещь мала, в ней есть часть духовной субстанции… Дух находится во всех вещах и нет малейшего тельца, в котором бы не было одушевляющей его части духа».
Концепция Бруно не отличается полною ясностью. Она, как и вся его система не доработана, не доведена до полной отчетливости в самом существенном пункте — в вопросе об индивидуации. — Существует единая имманентная вселенская душа, эксплицирующаяся во множестве проявлений: в преходящих, акцидентальных индивидуализациях. Такой индивидуализацией, очевидно тоже акцидентальной и преходящей, является душа земли. Подобным же образом можно говорить о душе растительной, минеральной, хотя Бруно этого и не делает, склоняясь здесь, скорее, к мысли о различных функциях единой души. Почему ее акцидентальность мы принуждены обосновывать словом «очевидно» и ссылкою на дух системы? — Индивидуализация души стоит в связи с акцидентальньш стечением элементов; душу можно определить, как «потенцию сложения и разнородности», «potentia compositionis et etherogeneitatis». Эта потенция актуализируется в бесконечном ряде конкретных индивидуальных «сло-
Стр. 216
жений», но ни одно из них не является субстанциею души, пребывающею вечно и надъиндивидуально. Если так, то и душа земли должна быть лишь одною из акцидентальных индивидуализации Вселенской Души. Или же конкретной и преходящей индивидуализации соответствует какой-то момент в самой субстанции Души Вселенской, нечто реальное, особое «possеst» (а не только posse)? Такой ответ ясен в системе Кузанца, не ясен у Бруно, что стоит в связи с неполною опознанностью им своей основной интуиции. А между тем вопрос должен быть разрешен. Дело идет не только о душе земли, но об индивидуальной душе каждого из нас.
Вытекающее из общих положений, развитых Бруно, учение о человеческой душе, заключает в себе признание индивидуального самосознания и бытия только акциденцией в жизни Вселенской Души, преходящим мигом, причем непонятно даже, реальна ли сама-то акциденция. Нет, конечно, и места идее индивидуального бессмертия, И с этим вполне согласуются уже приведенные выше слова Ноланца о смерти, страшной для не озаренного светом Истины, — Моя эмпирическая жизнь, с точки зрения целого не более, чем акциденция, пройдет и больше никогда не повторится, само мое я исчезнет навсегда. Ведь нет никаких оснований предполагать (если только не признавать мира конечным), что когда-нибудь повторится то же самое стечение обстоятельств, т. е, та же самое индивидуализация Вселенской Души. Более того — подобная повторность индивидуума была бы бессмысленною, противоречащею основным идеям системы. И если бы, вопреки бесконечности мироздания и смыслу его, вопреки всему, такое повторение индивидуального бытия (а ведь загробная жизнь, воскресение то же повторение акциденции), произошло, связи между ним и теперешним моим бытием существовать не могло бы. Однако, этим выводам, совершенно неизбежным и даже высказанным самим Ноланцем вплоть до признания человеческой души тою же, что у мух и устриц, и до пояснения множественности единой
Стр. 217
неделимой души аналогией с разносящимся по воздуху одним хотя и воспринимаемым многими звуком, этим выводам противоречит ряд заявлений самого Бруно.
Вполне понятно, что Бруно должен отвергнуть теорию творения индивидуальных душ Богом или креационизм. Несовместимою с его взглядами является и вера и дальнейшее загробное существование душ, т. е. в личное бессмертие, равно как и Платоновская вера в их предсуществование. Чтобы остаться последовательным, Ноланец должен отвергнуть и теорию метемпсихоза: что может переселяться из тела в тело, если индивидуальная душа — акциденция, а вселенская и без того находится во всех телах? Между тем в сочинениях Бруно мы с удивлением наталкиваемся именно на эту теорию. — Во втором диалоге «Каббалы Пегаса» выступает в качестве собеседника некий Онорио. Он помнит, что сначала был ослом, потом крылатым ослом или Пегасом, потом почувствовал (прекрасно объясненное платоником Плотином) тяготение к низшим сферам, при поспредстве семени Никомаха (воплотился в Аристотеля и, наконец, в Онорио. Не следует смущаться шуточною формою диалога, — Бруно убежден, что «действующая вселенская интеллигенция во всех одна и во всех скрьшается еще особая интеллигенция…, столь же многообразная, сколь много индивидуумов». Каждый субъект обладает своею индивидуальною, пассивною и активною разумностью. В связи с поступками в данной Жизни, как наказание за них, совершается перевоплощение в животное или человека же; «конечно, появляется не то же самое тело, но та же самая индивидуальность в другом теле». В том, что приведенное сейчас мнение высказывалось Бруно вполне серьезно и искренно, самого упорного скептика убедят инквизиционные акты. — Исповедуя веру церкви в личное бессмертие, рай, ад и чистилище, Бруно «философски» примыкает и считает самою вероятною Пифагоровскую идею метемпсихоза.
Даже допустив, что учение Пифагора истинно, необходимо признать его невероятность и непонятность в системе
Стр. 218
идей, развитых Бруно. Как тог Бруно, энергично подчеркивавший связь души с телом и, что ясно из того же диалога, именно с д а н н ы м телом, предполагать разрыв между ним и индивидуальной душой? И что это за акциденция, которая существует не акцидентально, ибо она многолика и переходит из одного состояния в другое? Или перед нами попытка приспособить христианскую идею индивидуальной души и индивидуального бессмертия к своей системе путем допущения дурной бесконечности перевоплощений, открывающих к тому же возможность символически толковать ад, рай и чистилище? Если так — что, впрочем, сомнительно — то эта попытка не удалась, потому что ф и л о с о ф с к и не оправдано бытие индивидуальной души, а христианское учение ничего не выиграло от включенной в него ереси. Очевидно, у Бруно два ряда мыслей, друг с другом не вполне согласованные.
В «Lampas triginta statuarum», относящейся к 1587 г., т.е. к виттенбергскому периоду жизни Бруно, ко времени, следующему за изложением основ системы в лондонских сочинениях, читаем: «Душа находится в строе и соустроении лестницы субстанций; . . . . она на грани между субстанциями интеллектуальной и физической или материальной. Следовательно, она не акциденция». Там же утверждается, что душа «не сила семени и не акциденция, но деятельница (effectrix) и образовательница (formatrix) в нем и чрез него»; что она «не акциденция», так как «ни одна акциденция не отрешается от субъекта и реально без субъекта не существует», а «душа человека отрешается от тела и реально существует без него». Подобные утверждения поражают нас, тем более, что в «Lampas» дано совершенно ясное учение о Вселенской Душе и, в частности, уже использована аналогия распространяющегося звука, использованная выше, В 1591 г. Бруно считает возможным говорить об особых душах сфер, об их «anima propria», о душах звезд, их «internus motor», уподоблял их двигателю нашего тела, т. е. нашей индивидуальной душе. Он
Стр. 219
сравнивает душу в теле с корабельщиком на корабле. А рядом со всем этим стоит отрицание взгляда на душу, как на отделенного от материи внешнего деятеля или как на энтелехию. Идея Вселенской Души заполняет сознание философа, и сами термины «anima», «spiritus», «intellectus», «mens» приобретают двузначность даже в индивидууме обозначая то общее, то единичное. «В каждом одушевленном и живущем существе», пишет Бруно, «обретаем мы это начало, то же самое и различное соответственно особым отличиям каждого, видовым и числовым».
Можно многое объяснять естественною непоследовательностью мысли, перебоями старых взглядов, уже отвергнутых; многое, но не все. Да и самый факт частоты этих перебоев и упорной жизни «старых» идей, неуловимость для мысли философа противоречий его системы свидетельствует о том, что наряду с отчетливо развиваемым определением основной его философской интуиции существует и другое определение, живущее потенциально, но временами актуализирующееся в отдельных мыслях. Так обстоит дело, в частности, с метемпсихозом. С другой стороны, легко обнаружить и еще одно противоречие — Бруно объясняет индивидуализацию Вселенской Души организацией тела, весьма остроумно и тонко связывая психические особенности и разумность человека с тем, что он обладает руками и умеет ими пользоваться. Насколько законно подобное объяснение с точки зрения самого Бруно? Ведь оно предполагает, что материя или организм, воздействует на душу и ее образует. На самом же деле образующее начало не тело, не организм, а душа. Душа оформляет свой организм, собирая и содержа стекающиеся отовсюду элементы. Значит, сначала душа создает себе такой-то организм, а потом организм образует в ней те самые свойства, ту индивидуальность, которая его образовала? Подобной нелепости Бруно утверждать не мог. Если же не мог, то, значит, он просто не додумал своей мысли до конца, возложив эту обязанность на читателя. Добросовестно выполняя завет Ноланца и заканчивая данную, частную
Стр. 220
его мысль в духе основных принципов его системы, мы неизбежно приходим к следующему построению. Если форма и материя, душа и телесность в универсальности их не две субстанции, а одно Первоначало, совмещающее противоположности, то индивидуализация телесная или создание организма не есть дело только тела или только души, но их общее дело, процесс или экспликация единого Первоначала. Противоположность души и тела акцидентальна и создается нашим разумом, бессильным без разделения и отрицания понять их единство. Если уж различать их (не как субстанции, а как модусы единой субстанции) то душа образует себя как тело, но ни в коем случае не образуется им. Принцип индивидуализации лежит в самом Первоначале, в самой Вселенской Душе, Это не значит, что она актуально или потенциально множественна, внутренно разъединена: она выше различий актуальности и потенциальности, выше противоречий. Но тогда в пей должен быть не только принцип эксплицитности, а и принцип индивидуализации и даже принцип всякого индивидуума. Сам Бруно называет Вселенскую Душу «potentia compositionis et heterogeneitatis animalis seu plantae», «agens et formatrix» что указывает на двойственность ее деятельности. Она сообщает вещам «vitani… et consiatentiam», т. е. оживляет и индивидуализирует. Она сначала живет caма сообразно всяческому роду и всем видам, ощущает и познает и (потом) дает им по одиночке (sigillatim) единичное (singula): жить, ощущать, познавать». И точно выражает эту мысль Бруно, когда говорит об «illud idem principium ас diversum».
Вселенская Душа в системе Бруно сближается с Душою у новоплатоников, считавших именно ее как бы двойственной: с одной стороны вечною, единою, с другой — многообразною и созидающею время и пространство. Но мы лишь подошли к основной проблеме, — Весь вопрос в том: как рассматривать Душу в качестве первоначала многообразия и индивидуализации? Должно ли мыслить Вселенскую Душу, как п о т е н — ц и а л ь н о содержащую в себе все, или же
Стр. 221
она является всем актуальной? На почве системы Кузанца ответ ясен. — Первоначало выше различия между «posse» и «esse», между потенцией и актом (то же самое утверждает и Бруно). Первоначало — «complicatio omnium», т. е. содержит в себе все индивидуальности, но в высшем единстве, которого мы понять не можем, так как мыслим или раздробленное множество или безразличное единство, как противоположности для разума непреодолимые. Поэтому каждая индивидуальность, каждая душа (в том числе и Вселенская) бессмертна или вечна; а ее эксплицитное и «стяженное» бытие (ее потенциальность и актуальность) не является чем-то новым, напротив эмпирическая жизнь — лишь умаление бытия. Душа существует, во-первых, эксплицитно (что является наименьшею степенью бытия), во-вторых, стяженно или актуально, в третьих, соединенно через Слово с Бесконечным, в четвертых — как момент самой комилицитности Божества. Последний модус бытия души не есть сама душа, а Бог; третий — ее истинное бессмертие. В системе Бруно, теряющей четкое различие между инфинитностью и трансфинитностью, нет и точного воспроизведения идей Кузанца. Бруно смешивает понятия стяженности и комплицитности, актуальной бесконечности и абсолютного. Мысля стяженность, отожествляемую им, хотя и не до конца и не всегда, с комплицитностью или абсолютностью, он часто понимает эту комплицитность, вопреки всем своим заверениям, как потенциальность. Поэтому и развитая в остроумную теорию «minima» идея Кузанца о самоповторении Монады не раскрывает всей своей плодотворности: переход от комплицит-ного самоповторения к ущербу бытия неясен и немотивирован.
Поскольку Бруно опознает живущую в нем интуицию абсолютного или комплицитного, т. е. «трансцендентного» Божества, он усматривает в Боге и д е ю индивидуальной души, своей, земной, звездной и т.д., и может воспринимать эти души (идеи) только как бессмертные. Но, постоянно смешивая комплицитность с актуальной бесконечностью и не усма-
Стр. 222
тривая отчетливо принципиального и сущностного отличия второй от первой, он неизбежно отожествляет идею души с самой душой и не видит тварности, т. е. относительности, последней, а, во-вторых, — принужден понимать эксплицитность души только в смысле акциденции и не объясни-мого, а, следовательно, иллюзорного или абсолютно временного умаления бытия. Чтобы понять это эксплицитное бытие, необходимо постигать» не только его yщербность, но и «ничто-нечто», тварностью или ограниченностью своею ущербность определяющее. В противном случае в индивидуальном не проводится грани между теофанией и тварью, а ущерб бытия оказывается необъяснимым и вынуждает признание его или падением Бога или нереальной акциденцией. Но эта акциденция соотносительна ограниченной комплицитности или трансфинитности. В трансфинитности же дан только принцип индивидуальности: индивидуальность заключена в ней потенциально, актуализируясь как миг дурной бесконечности. Следовательно, сущность души может быть понята у Бруно только как Вселенская Душа, единая, но не единомногая и опять-таки в силу отожествления Вселенской Души с Первоначалом, т. е. с абсолютным, необходимо либо отказаться от абсолютности Первоначала и Вселенской Души (откуда в ней несовершенство комплицитности и несовершенная эксплицитность?) либо совершенно отвергнуть акцидентальность. Теперь понятно чем объясняются колебания Бруно. — Он убежден в личном, индивидуальном бессмертии потому, что воспринимает комплицитность абсолютного бытия и отожествляет себя с ним. Но он должен отрицать индивидуальное бессмертие потому, что стяженность заслоняет собою абсолютное, а в стяженности индивидуального иначе, как потенциально, быть не может. Однако, первая интуиция снова превозмогает: Бруно приходит к понятию каких-то общих душ (души земли, звезд) и какой-то общей души, индивидуализирующейся во многих телах (т. е. метемпсихозу). А подобные интуиции уже предполагают некоторое, хотя бы
Стр. 223
и смутное, различение видов бесконечного. Действительно душа земли, Онорио или любого индивидуума не эмпирически-эксплицитная душа (эмпирическое бытие осла, Пегаса, Аристотеля, Онорио — лишь модус бытия), но и не Душа Вселенская, которая содержит в себе лишь потенции или принципы индивидуальных душ земли, Онорио и всякого человека, им в некотором смысле реально противостоя и относясь к ним так же, как они к своим модусам. Но мысля души и Душу реально- отличными моментами, необходимо мыслить высший принцип их единства, не «стяженность», а комплицитность, при чем эта комплицитность должна быть иносущной им, ибо иначе она не абсолютна, как умаляемая и умаляющаяся в них: и в их стяженности и в их эксплицитности. Иначе говоря, всякая индивидуальная душа созидаема ее идеею в комплицитном или абсолютном Боге, т. е. самим Богом, и проявляется как реальный момент вселенной. Во вселенной же она относительно-комплицитна или стяжена и относительно эксплицитна в эмпирии, достигая полноты и единства бытия и бессмертия в соединенности своей с абсолютным.
Таковы тенденции системы Бруно, им не выраженные но руководившие его мыслью и обусловившие противоречия. В учении о душе встают те же основные неясности в определении Первоначала.
22. Вселенская Душа или Бог, в котором полное единство в совпадение противоположностей, совпадение познающего, познаваемого и познания, не что иное как вселенная в ее свернутости или комплицитности (complicatio seu implicatio omnium); вселенная не что иное, как Бог в Его развернутости или эксплицитности (explicatio omnium). Поэтому само развертывание или «развитие» вселенной надо мыслить н е о б х о д и м ы м процессом в Божестве. Мир «не может быть иным, чем он есть, и таким, каков он не есть», потому что «происходит от такой воли, которая, чтобы неизменнейшею быть, есть абсолютная необходимость». Действительно,
Стр. 224
бесконечная сила не определяется, не оконечивается ни извне чем либо иным (такого иного рядом с абсолютным нет) ни собою, как не могущая быть инаковою внутренно «aliud et aliud». Она действует по необходимости своей природы: «necessitate suae naturae agit», и есть сама необходимость, «закон всего прочего», «Природа не может быть чем-нибудь случайным (fortuitum) «Случайностью» (fortuna) называется лишь причина того, что происходит редко и помимо намерения действующего. Также и случай (casus) — причина акцидентальная (per accidens) и редкая в действующем помимо своего намерения». Все, что ни свершает «здоровая природа», все, что она стремится делать, имеет свои определенные причины, свою определенную цель. Причинность и направленность к цели, совпадающие, как мы знаем, друг с другом, всеобщи. «Называемое же случайным, совсем не от случайности; но оно относится к тому либо к этому, исход чего недостоверен, неожидан, ненадежен». Здесь, в относительном бытии мы различаем необходимость и свободу; но «в простой сущности никоим образом не может быть ни противоречия ни неравенства; в ней воля не противоположна и не неравна мощи». Поэтому неправильно даже говорить о необходимости в применении к Природе в себе. — В Боге, «быть, мочь, действовать, хотеть — одно и то же». Выше и больше Него ничего нет; Ему ничто не противостоит и Он абсолютно прост. Это значит, что Он свобода, тожественная с необходимостью. Бог не может хотеть того или иного, «duo contradictoria», выбирать одну из противоположностей, ибо в Нем их нет. Они относятся только к текущему между ними бытию, двойственному, «соприкасающемуся» «контингентному». В полноте же и совершенстве бытия, в Боге, «познание Божье не отлично от воли Божьей, которая, в свою очередь, не отлична от рока, полагает и предполагает необходимость», «Его воля — сама необходимость, а необходимость — сама Божественная воля. И в этой необходимости нет отрицания свободы, так как свобода и необходимость — одно. Ведь для необходи-
Стр. 225
мости необходимость не есть необходимость; так же нет необходимости над необходимостью, как нет свободы над свободой. Там свобода создает необходимость и необходимость утверждает свободу. То, чего хочет неизменная субстанция, она хочет неизменно, т.е. необходимо. То же, что она не хочет необходимо необходимости, созидаемой чужой волей, но — необходимость, созидаемую собственною своею волею, весьма далеко от того, чтобы эта необходимость противоречила свободе. Напротив, такая необходимость и есть сама свобода. Воля и необходимость и есть одно и то же». Можно по-разному называть свободную Божью волю — свободою, роком, или судьбою, предназначением, предопределением, способностью неизменной природы, законом, необходимостью. Но все подобные наименования относительны и условны.
Понятие абсолютной свободы, т.е. действительной, а не мнимой, необходимо предполагает отсутствие определяющих ее инстанций вне ее и в ней самой, т.е. отсутствие выбора. Свободная воля есть немотивированно самодвижущееся бытие, немотивированно или сверхмотивировано в смысле отсутствия какого-бы то ни было разделения. Собственно говоря, ее нельзя назвать свободной, потому что термины «свободный» и «несвободный» соотносительны и применимы лишь там, где есть разъединение, а свобода в обычном смысле этого слова не что иное, как относительная свобода или сочетание истинной свободы с мотивированностью, т. е. необходимостью. По тем же самым соображениям неприменимо к абсолютной свободе и понятие необходимости. — Необходимость тоже предполагает разъединение, по крайней мере — внутреннее, и, в обычном понимании ее, только относительная необходимость. В абсолютном исчезает именно то, что создает такую относительную необходимость, и оно уже не необходимость, как уже и не свобода. В пределе необходимость делается свободою, свобода необходимостью, и противоречие между ними исчезает.
Стр. 226
Такова идея свободной воли, вытекающая у Бруно из анализа самого абсолютного (но не стяженно-комплицитного!) бытия, но могущая быть выведенною и из понятия свободы. Эта идея существенна для понимания Божества, которое есть провидение, сопутствующее истине и не существующее без нее, свобода и необходимость, «так как эта истина, провидение, свобода и необходимость, единство, истина, сущность, бытийность, все — одно абсолютнейшее». Но идея так понимаемой свободы не менее важна и для постижения эмпирического мира, разъединенного, т.е. подчиненного закону противоречия. А priori ясно, что в мире не может обнаружиться тожество свободы и необходимости, не может быть ни абсолютной свободы, ни абсолютной необходимости. Иными словами, в мире неизбежно воспринимаются и необходимость и свобода, ограничивающие и обуславливающие друг друга. И в силу их неразрывности каждое явление должно предстать пред разумно-познающим и как необходимое и как свободное. Стремление же до конца опознать свободу или необходимость эмпирического явления неизбежно должно приводить к снятию границ обеих и, в конце концов, совпадению противоречий. Однако, основная неясность системы Бруно затрудняет философа и обуславливает противоречия и недоговоренность в его выводax.
Обратимся к учению Бруно о человеческой воле. «Свобода нашей деятельности», говорит он, «осуществляется несовершенно и всякий раз направлена на несовершенный объект», т.е. не на целое, а на условно-выделяемую часть всеединства. Последнее тоже важно, так как из него ясно, что волевой акт не может быть пoлным, т.е. вполне свободным, или актуализованным. Поскольку же цель или объект воли эмпирически ограничены, воля «отовсюду смущаема чувствованием и сокровенностью вещей (rerum latentia)». Таким образом, результатом неполноты волевого акта является то, что, «прежде, чем мы начинаем действовать, мы колеблемся между двумя дорогами, обсуждаем, а, в конце концов, действуем неуверенно и со смущением чувства». Это
Стр. 227
и есть выбор — условие не свободы самой по себе, но эмпирического ее проявления. Однако, и в эксплицитности воля остается сама собой, т. е. имплицитною; и даже эмпирически не всегда связана с выбором. Такие обнаружения воли Бруно называет «естественною волею», «voluntas naturalis», или «стремлением каждой вещи сообразно своей природе», «appulsus cuiuscunque rei secundum suam naturam», приводя в пример падающий камень или подымающееся вверх растение. От «естественной воли» следует отличать «рациональную» (rationalis communiter dicta), «чувственную» или «интеллективную» (rationalis seu sensitiva vel intellectiva), «которая осуществляется» по предшествию какого либо чувствования разумом или интеллектом, т. е. связанную с выбором. Рациональная воля не что иное, как «arbitrium» или «способность различать, определять, выбирать».
Свободна ли рациональная воля? Она, говорит Бруно, подобно кормчему сидит на корме души и с помощью маленького руля разума направляет чувствования низших потенций против волн естественных порывов, «Звуком своей трубы, т.е. определенным выбором, скликает она всех бойцов, т.е. вызывает потенции (называемые бойцами потому, что они находятся в постоянном противоречии и взаимоотвращении друг с другом) или, вернее, их действия, т.е. противоположные мысли, из которых одни склоняют в одну, а другие в другую сторону, или стремится собрать их всех под знамя одной определенной цели». Конечно, велика «сила воли», все «устанавливающей, начинающей и выполняющей», дающей силу другому и себе самой, хотящей только то, что она хочет, и отвергающей нежелаемое и неприятное. Но все эти образы и заявления не дают прямого ответа на поставленный нами вопрос. Он должен быть положительным. — Бруно нападает на протестантов с их мусульманским или индийским фатализмом; он борется за принцип свободы во имя благородства и совершенства человеческой жизни. Протестанты отрицают у человека «свободу выбора», но ни один философ не делал из тожества свободы
Стр. 228
и необходимости в Боге выводов, утверждающих полную необходимость человеческих действий и чувствований и разрушающих свободу выбора. Бруно ясны и неприемлемы последствия детерминизма. Сам он индетерминист. Однако, он просто утверждает, а не обосновывает свободу, не замечая, что рациональная воля как раз свободною быть не может, не замечая проблем и возможностей, которые заключаются в его же собственных утверждениях.
Ему очевидна свобода воли; но столь же ему очевидна и «necessitas una omnia definientis Fati». При этом под роком или фатумом он, конечно, подразумевает имманентную мирозданию и, в частности, человеческой душе силу, которую можно отожествить и с провидением и с сущностной (не акцидентальной и рациональной) свободой. Признавая мотивированность человеческих действий в несравненно большей степени, чем делали его современники (за исключением астрологов). Бруно полагает, что во всяком человеке есть свой определяющий его влечения и склонности характер, «indoles ingeniumque». Если же задать себе вопрос о причинах и обстоятельствах возникновения этого характера, определяющего и занятия и фортуну человека, придется, прежде всего, указать на условия рождения, утробной жизни и самого зачатия. А зачатие и природа рождаемого, в свою очередь, связаны с природой и сложением родителей. Далее, характер образуется под влиянием окружающей человека физической среды. — «Телосложение людей в разных областях различно», и «отчизна дает вид и модус вида». Как народный, так и индивидуальный характер обусловлены местом рождения и жизни и только до известной степени поддаются воздействиям извне: воспитанию, действию законов и учреждений, религии; «корень природы «всегда зарыт глубже». Впрочем, весь характер человека на указанные влияния не сводим. — В нем заключается нечто прирожденное или созданное «духовным влиянием», «spiri-tualis influentia». Последовательное применение предполагаемого приведенными выводами Бруно метода необходимо
Стр. 229
должно привести к теории детерминизма. Но Бруно ограничивается лишь рядом отдельных более или менее остроумных и удачных, иногда опережающих его время наблюдений. Ноланец не довел до конца ни детерминизма, как вытекающего из законообразности мира или власти Души» ни индетерминизма, зародыш которого дан в рассуждениях о свободе-необходимости Абсолютного, Первое он не мог сделать потому, что наталкивался по пути на идею свободы; второе для своего развития нуждается в четком различении между эмпирией и абсолютным бытием. И мы снова встречаемся с основным недостатком ноланской философии.
23. Проблема свободы приводит к этике Бруно. Прежде, чем приступить к ее краткому очерку, отметим вытекающий из всего уже сказанного Ноланцем о человеке вывод. — Воля не является отдельною и обособленною от прочих способностью: она один из аспектов или одна из сторон единой души, «Влечение существует вместе с чувственной и воображательной формой, потому что потенции соединены». Различаемые разумом потенции воли и познания на самом деле переплетаются: воля поддерживает познание и обратно. Познание пробуждает, движет и направляет волю; воля возбуждает, образует и оживляет познание; они происходят друг от друга. «Сперва познание движет чувства, и тотчас же чувство движет познание… Сперва созерцательный ум видит прекрасное и благое, затем воля стремится к нему и тотчас же старательный интеллект (lъintelletto industrioso) пытается его достать, преследует и ищет». Но все эти «сперва», «затем», «тотчас же» обладают лишь условным значением: по существу воля, чувство, разум — одно и то же, познавательный процесс тожествен волевому.
«Интеллективная потенция никогда не успокаивается, никогда не удовлетворяется постигнутой истиной, но всегда движется все далее и далее к истине непостижимой. Так же и воля, следующая за постижением, никогда, как мы видим, не удовлетворяется конечным». Природа человеческого стре-
Стр. 230
мления бесконечна, потому что бесконечна его цель «Не без причины чувствующее сердце называют бесконечным морем воспринимаемого очами. Раз бесконечно то, к чему стремится дух, и раз бесконечно предстоящее ограниченному уму, не может воля удовлетвориться конечным благом. За ним она всегда находит другое, жаждет его и ищет». Это старая идея, на разные лады без конца повторяемая средневековыми мистиками, ставшая прочным достоянием религиозной психологии, идея Платона и Плотина. Объект познания и волн, объект души — бесконечное Божество. Бог «философа» — Бруно, (правда, как мы видели, ценой некоторой гипотетичности, а вернее: ценой неопознанного влияния религиозной идеи) — абсолютное, совершенное единство, «единое бесконечное, больше и лучше коего ничего быть не может». Поэтому и в раскрытии своем или в эксплицитности, как «natura naturata», в «совершенном образе своем и подобии», Он должен быть столь же бесконечным и совершенным, ибо все конечное тем самым уже несовершенно, а все совершенное — бесконечно. Итак вселенная в бесконечности своего целого совершенна, и не может быть ничего больше и лучше ее. Мир — «величайшее благо», «maximum bonum», «совершенное благо», а потому не увеличивающиеся и не уменьшающее и потому же вечно существующее. И как весь мир от Благого, так весь он благ и все в нем «благо чрез благо или — благом, от блага, через благо благое». Нельзя допустить, чтобы «Наилучшее Начало», «l’Оttimo Principio», что либо создавало не наилучшим образом. Следовательно, во вселенной не может быть зла. «Ничто не является абсолютно несовершенным, злом; но — только по отношению к чему-либо: абсолютно всякая субстанция — благо».
Однако все-таки вселенная не всецело бесконечна, все же относительно зло существует, и проблема еще не решена тем, что оно познано, как недостаток блага или совершенства. Зло в качестве причины недостатка остается, и необходимо, по крайней мере, объяснить причину
Стр. 231
подобного умаления бытия. Она выясняется без труда и, разумеется, лежит в факте эксплицитности; природа совершенна только — иначе и быть не может — в целостности своей пространственно-временной бесконечности. Всякий отдельный момент ее в отдельности своей, всякая оторванная от всеединства вещь, «любой чувственный мир» из бесконечного числа их, составляющих вселенную, несовершенны, так как во всем этом «сходятся зло и благо, материя и форма, спет и мрак, печаль и радость». Всякое индивидуально-конкретное бытие в отдельности, а, значит, и в индивидуальности своей, как момент необходимого процесса развертывания Божества, как звено в неразрывной цепи, — только относительное благо или, если угодно, относительное зло.
Удовлетворяет ли такое построение? — Возможно ли Совершенство, а, следовательно, и полная бесконечность не могущей никогда закончиться вo времени и пространстве внутренно-разъединенной природы? Достаточно поставить этот вопрос для того, чтобы ответить на него решительным отрицанием. Неопределенное (indefinitum) или потенциальная бесконечность никогда не может быть абсолютным. Какой уж это «совершенный образ и подобие Бога». Не карикатура ли на Него? Если Бог действительно абсолютен, у него нет ничего общего с индефинитностью мира и, может быть, она не должна существовать даже; если же мир модус или аспект Его, то Он не абсолютен, но мыслимо нечто большее, в котором нет разъединенности. Даже если вся неполнота, все раздробление мира восполняется высшим его аспектом, актуальностью, так что в единстве нет неполноты, совершенство не достигнуто, ибо эта разъединенность, это несовершенство все же существует и, чем-то восполняя высший аспект, говорит о неполноте единства. Не разъединенностью, не эксплицитностью, скажет Бруно, отображает мир абсолютное, а своим единством. Но ведь единство мира в целом и есть абсолютное. Что же оно может еще отображать? Или за единством мира, как условные абсолютным, есть еще иное, истинное абсолютное? — Наверное, есть,
Стр. 232
потому что имплицитность мира не заключает в себе всего неопределенно-бесконечного, но лишь принцип его. Эта имплицитность — только единство мира в целом, актуальная бесконечность, не мыслимая без потенциальной или эксплицитности. Она не может содержать в себе индивидуально-конкретного, потому что тогда его совсем не было бы в том виде, в каком оно есть. Если же мы правы, то актуальная бесконечность, нуждаясь в потенциальной и полнотой ее не обладая, не есть полная бесконечность или совершенство; она не абсолютное. Следовательно, абсолютное выше мира. Оно содержит в себе и актуальность и потенциальность бесконечности не разъединенно и противопоставленно, а комплицитно. Оно превосходит имплицитный мир тем, что в нем находится и то, чего в имплицитности нет, но что есть в эксплицитности; оно превосходит эксплицитность тем, что в нем находится все индивидуальное, но не разорванно и как все во всем. Оно не есть природа, ибо реального недостатка бытия в нем нет и этот недостаток из него необъясним и невыводим. Абсолютное выше природы: и naturae natu-rantis, и naturae naturlae, и их единства, хотя и первая и вторая и третье живут только им и его отображают. При таком понимании, предполагающем творение из ничего и тварное ничто-нечто, приемлющее в себя Абсолютное и в приятии бесконечно растущее, действительно можем мы оправдать все индивидуально-конкретное и выставить положение, что оно в Абсолютном и в связи с Ним не погибает. Только для этого надо раскрыть идеи вечности и времени, в вечности содержащегося и отражающегося.
Все эти соображения, ведущие за границы «философии» Бруно… назад, к системе Николая Кузанского, необходимы для того, чтобы понять Ноланца и в его недосказанности и противоречиях и в основе его интуиции. Только они в силах помощь нам оценить этическую идею Бруно.
Бог в развернутости своей, отожествленной Бруно с эмпирической Природой, является отображением Себя в сверну-
Стр. 233
тости. Благая и совершенная как целое ( = Бог ) она всегда пребывает сама собою, не умаляясь и не совершенствуясь. «Mundi bonitas semper est in eodem vigore», в той же бесконечной «силе», больше которой быть не может. Мирстремитсяквечномубытию: «in mundo est appetitus et appulsus ad esse semper». Ho почему стремится? Он уже есть вечно. Или «есть» мир в свернутости, «стремится» в развернутости? Видимо, так. Мир — благ. Но, признавая его совершенным и бесконечным, надо признать, что «все во всем». А следовательно, каждая субстанция должна быть самою вселенною; должна, но, к несчастью философа, не есть. Поскольку не есть, отвечает Бруно, она не субстанция, а эксплицитное, акцидентальное бытие, модус субстанции. Но если этот модус — реальность, а не иллюзия, встают все уже указанные противоречия; если же — не реальность, то нечего о нем и говорить, нечего строить этику. Бруно не может отвергнуть реальность акцидентального бытия, которое поэтому оказывается у него в некотором смысле субстанциальным. Ведь говорит же он о «всякой», о «каждой» субстанции, «omnis substantia», хотя разъединенность субстанции, позволяющая употреблять эти термины, казалось бы, не должна быть реальною. Он может это делать, только на основе своей первичной, более широкой, чем данные им определения ее, интуиции.
«Цель и усовершение всякого действия — состояние и бытие», «finis et perfeclio omnis operationis est consistentia et esse», и абсолютно всякая субстанция — блага: «oninis substantia absolute est bona». Если следовать букве учения Бруно, то абсолютный модус всякой субстанции, не что иное, как единая субстанция в лишенности ее всех ее акциденций, само всеединое. Но в таком случае уже не уместен термин «всякая», потому что он предполагает индивидуальное, обособленное бытие: «первоначально, реально и в смысле цели все — одно существо, одна и та же вещь, ибо единое и истинное сущее есть одно и то же». Если же придавать значение слову «всякая» и думать, что Бруно
Стр. 234
пользуется им не случайно, необходимо допустить какое-то абсолютное бытие индивидуальности, усматривать ее в комплицитности.
Анализируя моральную жизнь человека, Бруно, вдохновленный платонизмом, указывает на соотносительность блаженного покоя, «l’ocio eletto», с утомляющим трудом. «Как действия не являются благими без предшествующего им размышления и обдумывания, так нет им цены, если не предшествует покой. Равным образом не может быть сладостным переход от покоя к покою, потому что покой сладок лишь тогда, когда исходит из лона утомления». Так внешнее блаженство оказывается единством противоречий, в нем непостижным образом реальных и единых, комплицитных. Возьмем далее добродетель. — «Человек находится в состоянии добродетели, когда он держится посреди двух противоположностей. Но когда стремится он к крайности, склоняясь к той или другой из них, в нем недостаток добродетели, являющийся двойным пороком. Порок же заключается в том, что вещь отступает от своей природы, совершенство которой состоит в единстве. И там, где сходятся противоположности, находится сложение (consta la composizione) и существует добродетель». «Обе противоположности в излишестве (eccesso) своем, т. е. поскольку они выходят за предел, — пороки, ибо переходят они пограничную линию. Но поскольку они соизмеряются, они становятся добродетелью, ибо сдерживаются и замыкаются в пределах». Таким образом, добродетель заключается в том, чтобы «medium tenere еxtremitatum».
Сделаем вывод из сказанного. — Есть ряд оснований предполагать, что идея жизни индивидуума Бруно представляет себе не как простое творение всего конкретно-индивидуального и личного во всеединой субстанции, но как некий расцвет комплицирующейся и комплицирующей свои «акциденции» индивидуальности. А благодаря этому и акцидентальное становится реальным. Весьма показательно, что даже страсти, на борьбу с которыми зовет всех Ноланец, пред-
Стр. 235
ставляются ему органическими моментами природы. Их надо не отвергать, а преобразовывать, извлекая из них полезное и претворяя их в единство идеального человека. Разумеется, рядом с этой тенденцией стоит другая. Бруно, по моему мнению, не совсем уж в шутку считавший блуд величайшим делом природы, словно аскет призывает бороться со страстями и ставит добродетель выше борьбы с ними: «синдересис» или «внутреннее угрызение совести и ропщущее против извращенных помышлений» зовет и побуждает исправить и возместить совершенные проступки. И едва ли таинственная «соincidentia oppositorum» стоит за прославлением эпикурейской апатии. «Истинная и полная добродетель силы и постоянства не та, что чувствует и переносит тяготы; но та, что переносит их не чувствуя».
Продумывая идеи Бруно, невольно приходишь к убеждению, что мораль не навязывается извне, а находится внутри человека, природна и, как закон природы, неизбежно обнаруживается в той или иной степени. Это несомненно так, если истинно существует только единая, проявляющаяся во всем субстанция и каждый из нас стяженное всеединство. Все во всем, и каждый индивидуум в подлинной сущности своей совершенен. Сущность его — стремление к бесконечному усовершению; об акцидентальном же не стоит и говорить. «По необходимости своей природы он делает благое и лучшее». В труде и постоянных заботах мы все более и более «удаляемся от скотского бытия, все более приближаемся к бытию божественному». Непонятно только — и мы знаем, почему — само пребывание в «скотском бытии» и движение к совершенству. Раз эксплицитность соотносительна комплицитности, а единство их уже существует, к чему стремиться и совершенствоваться? Но даже если есть основания стремиться, можно ли призывать к стремлению. Ведь оно необходимо осуществляется само собой, неизбежно, как закон мира. Не придется ли согласиться с «женевскими гарпиями»? Стремление к совершенству осмысленно лишь тогда, когда оно что-то прибавляет к бытию и когда вполне
Стр. 236
оправдана эмпирическая свобода вместе с абсолютной ценностью эмпирии вообще.
Бруно зовет к усовершению и единству. Он указывает на недосягаемый идеал, требующий героического пафоса и героических усилий. Этот идеал не для толпы. Толпу Бруно «ненавидит»; множество его тяготит. Он хочет пробудить к жизни «благородные души, вооруженные истиной и озаренные Божественным Умом, чтобы они подняли оружие против темного невежества и взошли на высокую скалу созерцания. Всякая иная цель для них незавидна и пуста». Он зовет с собою избранников, сам «в радости печальный, а печали радостный»; удаляется от толпы, предоставляя ее собственной ее участи — гнету вульгарной религии и традиционной морали. Природа сама установила среди людей иерархию, которой не следует нарушать. Иначе находящиеся в подчинении захотят стать выше, неблагородные сравнятся с благородными и так извратят порядок вещей, что общество, в конце концов, впадет в безразличие и скотское равенство. Это уже существует «в некоторых грубых республиках», «где педанты захотели быть философами, рассуждать о природе, вмешиваться в дела божественные и решать их». «Дух, взыскующий горнее, прежде всего, перестает думать о толпе», ленивой и невежественной. И не для толпы проповедуемая философом мораль.
Так и должно быть для того, кто отрицает акцидентальное бытие, кто мыслью и делом утверждает всеединую субстанцию. Но мы знаем, что в действительности Бруно от толпы не уходит, а бросается в самую гущу ея, словно бесконечно дорожа всем акцидентальным, И если он зовет на «скалу созерцания», то сам не на ней, а среди шумной толпы невежд, в тихой семье Кастельно или на пиру с милыми друзьями, сам веселый и шумный. Он первый нарушает порядок природы и колеблет кафедры прочно усевшихся на них педантов. Томясь по абсолютному и презирая конечное, он забывает о первом, чтобы утверждать второе. Нет, его идеал не ка «скале созерцания», и жизнь не умещается в схему теории.
Стр. 237
Бруно стремится сам и зовет других к Высшему. Высшее, что есть, — Истина. Она — самое божественное; более того — Божество не что иное, как сама Благость, Краса, Истина, Красота, видимая нами в телах, — нечто акцидентальное, некоторая тень. Но разум постигает более истинную красу, обращаясь к тому, что создает красу тел, не счислимую даже «Соломоновым числом». А создает красоту тел душа. После этого ум подымается еще выше. Поняв, что душа несравнимо прекраснее всякой телесной красоты, он убеждается в том, что и краса души не первоисточна: душа не прекрасна сама по себе. И вот пред ним открывается «высший ум», «дух», который прекрасен и благ уже сам по себе. Таков процесс восхождения к абсолютной Красе, Ошибочно считать его чисто интеллектуальным: интеллект лишь одна сторона единой души. По существу он то же самое, что и любовь, Любовь же сначала чувственна и «подобна неразумному младенцу», «un putto irrazionale», или «безумцу», бессознательная и слепая. Постепенно она делается разумною, интеллектуальной и coзepцaтeльнoй, чтобы, в конце концов, очиститься и стать «героическим одушевлением», достойным любимого. Тогда она уже не любовь, а «сверхчеяовеческое вдохновение», «unъispirazione sovrumana», «героический восторг», «un furore eroico», или «платонический экстаз», «rapto platonico». Она насыщает дух Красою безграничной, озаряющей весь мир Истиной, абсолютной Правдой.
«Восторги эти… не забвение, но память; не пренебрежение самим собою, но — любовь или жажда прекрасного и благого, что дает силу стать совершенным, преобразиться и уподобиться ему. Это не восхищение под власть законов недостойного рока, охватывающего оковами звериных чувств, но разумный порыв, за которым следует умное постижение благого и прекрасного». У души как бы вырастают крылья. Она ощущает пламя интеллектуального Солнца и Божественный вихрь, расправляющий крылья ее… Она чувствует внутреннюю божественную гармонию и согласует свои мысли и
Стр. 238
дела с симметрией закона, вкорененного во все вещи. Цель этого единого напряжения ума и воли — Бог, «высшее благо и первая истина, абсолютная благость и краса». И свет разума, погружающегося в бездонную пучину, в которой исчезают все противоречия, все определения, меркнет Любовь, смущаемая бездной Божественности, цепенеет. Но вот вновь возвращается она для того, чтобы силой воли устремиться туда, куда не может привести ее ум. Так стремящийся, так любящий, в конце концов, преображается в Любимого и, сгорая в пламени бушующего костра, становится Богом Всеединым. Но став Богом «он уже не думает ни о чем, кроме Божественного, являет себя нечувствительным и бесстрастным во всем, что так сильно чувствуют другие и что их так мучит. Он ничего не страшится; из любви к Божеству презирает иные наслаждения, вовсе не думает о жизни». «Его чувства все и всецело обратились в Бога, т. е. в идею идей. От света умных вещей дух вознесен к сверхсущностному Единству и, весь любовь, весь единый, не чувствует докуки рассеивающих его предметов. Тогда уже нет любви, взыскующей частное, могущей докучать, нет и другой воли. Ведь нет ничего прямее прямого, нет ничего прекраснее Красы, лучше Блага». Душа, «побежденная высокими мыслями, словно мертва для тела; она вздыхает ввысь и, хотя в теле еще и живая, живет в нем как мертвая», «non fa pensiero alcuno delta vita».
Таков этический смысл системы Бруно, его философии, учащей человека «направляться к своему внутреннейшему, понимая, что Бог близко, вместе с ним, внутри его более, чем он сам, что Бог — душа душ, жизнь жизней, сущность сущностей, что все видимое нами вверху, внизу и окрест… — тела, созданные на подобие того шара, в котором находимся мы сами, а в них не менее присутствует Бог, чем в нашем мире и в нас самих», «Кто же даст мне крылья, кто согреет Мое сердце, освободит меня от фортуны и смерти, разобьет цепи на этих вратах, из которых мало кто освободившись вышел? Века, годы, месяцы, дни и часы, дети и оружие времени, и этот двор крепче железа и алмазов защитили
Стр. 239
меня от их ярости. Вот почему расправляю я крылья, не страшусь разбиться о кристалл или стекло, но пронизываю небеса и подъемлюсь к восходу с моего шара на другие, и проникая дальше по равнине эфира, я оставляю позади то, что видел издалека».
Есhi mъimpenna, е chi mi scalda il core,
Chi non mi fa tener fortuna о morte,
Chi le catene roppe a quelle porte,
Onde rari son sciolti ed escon fore?
Lъetadi, gli anni, i mesi, i giorni e lъore,
Figlie ed armi del tempo, e quella corte,
A cui ne ferro, ne diamante eъ forte,
Assicurato mъhan dal suo furore.
Quindi lъali sicuri a lъaria pergo,
Ne tenio intoppo di cristallo о vetro,
Ma fendo i cieli e a lъinfinito mъergo;
E mentre dal mio globo agli altri sergo,
E per lъeterio campo altre penetro,
Que! cъaltri lungi vede, lascio a tergo*.
———————
*) Позволю себе привести перевод этой пиесы, сделанный Р.Р.Блох. –
Кто дал мне крылья, кто исполнил жаром,
Кто отогнал погибель и нвзгоды,
Кто откровенные немногим входы
От пут освободил одним ударом?
Слепые дети времени не даром,
Дни, луны, месяцы, недели, годы
И этих зал незыблемые своды
В его пылу меня укрыли яром.
И вот широкие крыла под’емлю
И с хрусталем нигде не встречусь сферным,
Но подымусь в необозримой глади
И для других миров покинув землю,
И ввысь эфиром уносясь безмерным,
Все бывшее вдали, оставлю сзади.
Стр. 240
В описании «rapto platonico» очень многое напоминает не только Платона, но и… средневековых мистиков, викторинцев или «серафического доктора» Бонавентуру. Однако энергичный тон дает всему новую окраску. — Охваченный «героическим восторгом» «думает только о Божественном», «не думает о жизни». Так ли? — Так, если помнить, что Бог — Всеединство и мысль о Нем есть мысль о бесконечном небе, бесчисленных несущихся по нему звездах, о всем единстве мироздания. И, несмотря на теорию самозабвения в Боге, «сверхчеловеческое вдохновение» раскрывает конкретную полноту вселенной, в которой искрится Божественным огнем все индивидуальное. Не потухает и личность бесстрашно пронизывающего небеса, несомого вихрем героя. Его дух не растворяется и не теряет себя в безмерно-женственной, пронизываемой мучительными и бесконечно — сладостными молниями любви средневекового мистика, но исполнен мужественной и яркой силы, весь собран в себе, и вбирает в себя Всеединство, Ум не мог раскрыть Бруно его интуицию; пламенеющая любовью воля озарила пучину Божества и открыла в ней комплицитность вселенной, находя себя в ней и ею, хотя еще и не узревая Абсолютное.
24. В этике Бруно открывается жизненный нерв его системы. На вершинах экстаза любви-познания обнаруживается безмерная энергия индивидуальности, утверждающей себя в приятии тварного всеединства и ощущении единства своего с Абсолютным. Героический восторг позволяет Ноланцу постичь единство всего сущего и в этом постижении не утратить многоцветности и индивидуализованности мироздания. Предстает вселенная, как целое, и каждый момент ее, как все во всем. Можно сказать, что Бруно п е р е ж и в а е т понимание мира, данное в системе Кузанца, и
Стр. 241
мимолетные, хотя и многозначительные натеки кардинала Римской Церкви на пламенеющую радость познавания разгораются в бушующий огонь эстетического и морального пафоса. В моральном и эстетическом воодушевлении Бруно актуализирует идею Николая Кузанского и остается верным открытой ему «божественным» учителем интуиции. Он верен ей потому, что вопреки своим намерениям быть «только философом», ощущает Абсолютное. Но ощущая абсолютного Бога, он все же мыслью не отделяет Его от всеединства Природы. Ему словно некогда думать о Божестве: настолько увлечен он красою открывающегося ему мироздания. Гармоничность, величавое спокойствие и класси-ческий дух, наполняющие глубокое умозрение Кузанца, Бруно недоступны. Он приближается к ним лишь в моменты высших своих созерцаний; но и в них ярче всего обнаруживается полный бурной энергии порыв, самой стремительностью своей свидетельствующий о какой — то своей недостаточности. Мера нарушена и нервичность романтика сменяет гармонию классицизма. Это сказывается сейчас же, как только Бруно нисходит в область философствований. Здесь, словно отдалившись от Абсолютного, он все ярче и резче обнаруживает свою внутреннюю дисгармоничность. И если даже у Николая Кузанского мы встречаем иногда смешение трансфинитности с инфинитностью, той и другой с пределом, для Бруно это смешение становится правилом, редко нарушаемым. Различение абсолютности, как «compli-catio omnium», и актуальной бесконечности бледнеет и временами, даже чаще всего — исчезает. Отсюда пантеистический уклон всей системы, каждый раз, когда дело доходит до отчетливых определений, разбивающийся об основную интуицию, сильную мигами героического восторга. Отсюда вечная борьба, дурная бесконечность исканий, повторения и топтание на одном месте, обреченность на бытие в индефинитности.
Единство системы Бруно определяется основной интуицией Божественного Всеединства, проявляющегося в индивидуаль-
Стр. 242
но-конкретном мире. Но ведь это интуиция Кузанца, могучее влияние мысли которого сказывается на всей философии Бруно вплоть до мельчайших ее частностей. Принято отмечать гениальные дивинации Ноланца; однако на поверку они оказываются или повторением или развитием мыслей Николая Кузанского. — Бруно расширяет теорию Коперника на всю бесконечность видимых и невидимых миров, предвосхищая идеи Кеплера и Галилея, не пугаясь, как они, перед бесконечностью вселенной. Принять гелиоцентрическую точку зpeния, а, тем более, сделать из нее те выводы, какие сделал Бруно, и так ее расширить, было не легко. Сам он рассказывает, каких трудов ему стоило признать правоту Коперника. — Будучи отроком, «putto», он считал теорию польского астронома просто глупостью; ознакомившись с философиею, признал ее столь ложною, что удивлялся, почему Аристотель считает нужным так пространно доказывать неподвижность земли. «Когда был я помоложе и менее знающим, я признавал ее вероятной». Только за несколько лет до 1584, «alcuni anni adietro», он счел ее сначала «semplicemеnte vera», потом — «cosa certissima». Разрыв с традиционными взглядами был мучительнее, чем мы можем себе представить, тем более, что гелиоцентрическая теория действительно потрясала обычное и привычное понимание догмы. А за веру, как мы знаем, Бруно держался крепко. Тем не менее, Бруно, далеко опережая современников, высказал новую теорию мироздания и, включив ее в символ своей философской веры, с необычайным шумом и энергией проповедовал ее во всех концах Европы. Однако принцип теории все же дан и развит Коперником, а расширение ее на все мироздание и бесконечность (хотя и несколько в ином смысле) предвосхищено Николаем Кузанским. Бруно учил о кругообразности орбиты вращения небесных тел и их формы, так как совершенного круга в мире быть не может. Здесь он предшественник Кеплера и астрономов XIX века. Но то же самое уже говорил и Кузанец. Бруно указывал на относительность понятий верха и низа, центра, отрицал суще-
Стр. 243
ствование центра вселенной, но и тут он повторял своего учителя, как и в начатках учения о всемирном тяготении. Все эти идеи, к которым следует присоединить предварение принципа относительности, тоже впервые высказанного Николаем Кузанским, поражали современников и поражают нас своею смелостью. Я далек от того, чтобы умалять значение Бруно, пламенно признавшего их, и еще менее склонен считать все подобные дивинации счастливыми. Количество этих случайностей едва ли может быть оправдано теорией вероятностей, несмотря на фетишизм ее, господствующий к современной физике. О т к р ы т и я Кузанца, повторенные Бруно, свидетельствуют о несомненной жизненности и глубокой внутренней правде их системы. И все же и система и открытия должны быть возведены к Кузанцу. А то, что Бруно открывает самостоятельно, implicite уже дано в усвоенном им и из него вытекает. Так он продвинул и развил атомистическую гипотезу, хотя и не в той мере, как полагает Л а с с в и ц, недооценивающий Кузанца. Далее, раньше Галилея Бруно отверг возможность в природе пустоты и выставил теорию эфира, своеобразность которого, как материи, и отметил. Соображения Ноланца о наследственности и развитии позволяют многим видеть в нем предшественника современного эволюционизма, что, впрочем, еще не является очень большою заслугою. Предвосхищением идей Бергсона кажутся замечания Бруно об инстинкте, и немалым значением обладают его мысли о связи разумности и форм душевности вообще с физической организацией субъекта.
Итак, система Бруно является воспроизведением системы Кузанца и философское его значение, как будто, сводится только к роли распространителя гениального синтеза средневековой и древней мысли, данного в интитуициях святого кардинала. Более того — в области философствования Бруно не умеет опознать основную свою интуицию и, постоянно путая понятия инфинитности или абсолютного и трансфинитности, не улучшает, а ухудшает систему своего
Стр. 244
учителя. Значит, истинное значение системы Бруно уже заключается в учении Кузанца? Если ложность ее найдена, а, может быть, и не нуждалась в столь долгих исканиях, стоило ли так подробно излагать «ноланскую философию»? — Конечно, стоило, потому что и самой ложности и ошибочности ее должна быть своя истинность, К значению Бруно, как посредника, мы еще вернемся, теперь же постараемся выяснить истинность его заблуждений. — То резкое различение между философией и верой, как системою догм и субъективным основанием их, которое проводит Ноланец, должно обладать своим объективным основанием. Оно ухудшает систему» но в нем есть своя правда.
Действительно, ограничение задачи философии по мысли Бруно заключается в том, что философ в качестве философа не должен пытаться скудными средствами естественного познания открывать Божьи тайны. Он не должен (опять-таки как философ, но и только как философ) обращаться к дедукции мира из Бога, а обязан сосредоточиться на познании этого мира. Если Кузанец» исходя из глубин Боговедения, созерцает Бога в мире, как Число, Меру, Вес и познает принципы мира; Бруно созерцает мир, от него и чрез него восходя к Богу. Для него мир — всеединство. Благодаря этому Кузанская философия получает новый акцент: полнее и обостреннее переживаются мир и личность постигающего мир философа. Только острота переживания такова, что тварное всеединство застилает Божественное, иногда как бы от него отрываясь. А такой отрыв с необходимостью ведет к разложению тварного всеединства, к необъяснимости индивидуального, тающего в актуальном, тающего в актуальной бесконечности, к трагедии философской мысли, воспроизводящей, но в обратном порядке, путь пройденный Средневековьем. Николай Кузанский стоит на самой грани средневековой и ново-европейской философии, спокойный и гармоничный. Бруно уже по эту сторону грани, уже отрывается от синтеза кузанской философии; требующей дополнения, В чем оно должно заключать-
Стр. 245
ся, Бруно почувствовал. Он сознал необходимость философски принять весь конкретно-индивидуальный мир. Но, видимо, только изжив до конца односторонность влечения к миру можно завершить дело Николая Кузанского. Эта задача превышает силы Ноланца и онъ ограничивается тем, что ставит проблему новой философии, преднамечая ее путь в напряженных исканиях и дисгармониях своей системы.
25. Бруно-философ оставил мало учеников. Что говорят имена Э н н е к е н а, Н о с т и ц а, Э г л и н а? Немного прибавят к славе Ноланца, ценимый Л е й б н и ц е м А л ь ш т е д т (Alstedius) или К и р х е р, оба испытавшие сильное влияние сочинений Бруно. Значительнее косвенное влияние ноланской философии на современное (а чрез него и на последующее ему) естествознание. Сочинения Бруно были настольными книгами и К е п л е р а и Г а л и л е я. Кеплер пугался «уготованных ему в бесчисленности светил у Бруно оков и тюрьмы, а вернее всего — просто изгнания в бесконечность» и оспаривал защищаемую последователем Бруно Брюсом (Brutius) идею бесчисленности миров. Он писал Галилею: «Не станешь ты, Галилей, завидовать славе наших предшественников, которые на много раньше тебя предсказали то, что недавно воспринял ты глазами… Этим ты исправляешь учение Брюса, заимствованное им у Бруно и в части» (речь идет об открытии спутников Юпитера, оказавшихся таким образом лишь новыми лунами, но не новыми планетами нашей солнечной системы) «доказываешь ее ложность». И трудно сказать, как повлиял Бруно на развитие естествознания. Ведь он бросал свои идеи в увлеченную новыми открытиями среду энтузиастов, высказывал их в атмосфере живого интереса широких кругов именно к этой области знания.
Известный Г ю э (Huet, Huetius) обвинял Декарта в заимствовании у Бруно и метода сомнения и теории вихрей. При желании можно сюда присоединить идею «правдивости Бога», Противники Гассенди возводили к Бруно учения
Стр. 246
первого об атомах и множестве миров. В 1655 г. Шарль С о р е л ь выступил защитником памяти Бруно. Сореля опровергал Б э й л ь. Несравненно важнее, что Л е й б н и ц признал сочинения Ноланца заслуживающими некоторого внимания. Он подтвердил обвинение в заимствованиях, сделанных Декартом у Бруно, и… в таких основных вопросах своей метафизики, как монадология, согласование необходимости со свободой и оптимизм, сошелся с ним сам. Лейбницу, многим обязанному и самому Кузанцу, публично указал на это Л а к р о з, внимательно читавший Бруно, несмотря на «отталкивающую темноту» изложения и признававший в нем исключительный, хотя и лишенный чувства меры ум. Имя Бруно, его судьба и философия вызвали даже некоторую полемику. Немудрено, что кое-что о Бруно знал и падкий до «мучеников науки» Вольтер. Но только в самом конце XVIII века можно говорить о настоящем знакомстве с трудами и идеями Ноланца и даже о популярности его философии. Выдвинутый Я к о б и, давшим превосходное изложение «De Causa, Principio е Uno», Бруно привлек внимание родственного ему по духу Шеллинга. Диалог Шеллинга, озаглавленный именем Ноланца, обеспечил длительную известность и внимание к его системе. Для историков философии Бруно становится, наконец, крупнейшим представителем философии Возрождения. Его идеи обнаруживают свое влияние, оттесняемые лишь развитием позитивизма. Но и в эту последнюю эпоху «мученика за свободу мысли» и своего метафизика популяризируют итальянцы. Издаются его сочинения; на Саmpо dei Fiori воздвигают ему памятник.
Трудно определить удельный вес самого Бруно в развитии философской мысли. Не следует забывать, что его влияние идет параллельно с воздействием тех же идей или родственных им чрез посредство других его современников и предшественников. А если мы при этом сопоставляем Бруно со средневековой философией и с Кузанцем, столь основательно забытьзм до самого последнего времени, то окажется, что философское значение Ноланца сводится, как будто, к
Стр. 247
роли посредника. Новая философия не любила схоластики и старалась о ней забыть, то полагаясь на силу разума, уже дискредитированного философией ХIII в., то сознательно отстраняя от себя всякую метафизику и мистику. При таких условиях прошлое могло претворяться в настоящее лишь окольными путями: чрез посредство того, что стало общим философским достоянием, философскою традицией, хотя бы и потерявшею память о своих творцах, чрез посредство тех, кто выступал против «схоластики», но сам, может быть, являлся лишь плодом ее. К числу таких не желающих помнить родства принадлежал и Бруно. И если он долго оставался вне прямого воздействия на философские системы, он все же был доступнее, понятнее, интереснее по своей судьбе и шумливее, чем Николай Кузанский. А кроме того, Бруно самою формою своих произведений был как бы предназначен к роли популяризатора варварским языком изложенных идей. Его блестящие иногда диалоги воспитывали тех, в среде которых росли истинные философы, незаметно для самих себя впитывавшие сказанное или повторенное им. Бруно растворялся в процессе развития философии; имя его забывалось, но идеи, за которые он боролся, переживали славу их защитника. Словно история хотела оправдать учение об акцидентальности личности, сущность которой — всеобщее.
Итак, сделает, может быть, свой вывод читатель, значение Бруно в философии чисто-историческое. — Подобное суждение покоится на плохом понимании исторического. Если историческое значение мыслителя заключается только в том, чем и как определил он дальнейшее развитие идей, историю, право, изучать не стоит. Ведь очевидно — Шеллинг глубже и гениальнее развил аналогичную ноланской философии систему идей; а если Вы верите в Канта, хотя бы с тою же степенью твердости, с какою Николай Кузанский верил в предстательство святых, то для Вас и Шеллинг и тем более Бруно давно превзойдены философскою мыслью. Пожалуй, Вы предпочтете «Platoъs Ideenlehre» Павла Наторпа диалогам
Стр. 248
самого Платона, а, в лучшем случае, посоветуете занятия историей философии начинающим, как полезную пропедевтику. Но в последнем случае, конечно, надо указывать не на «Героические восторги», а на «Пролегомены ко всякой будущей метафизике».
Если история философии действительно история, если обладает она важным значением и самоценностью, а не представляет собою собрание заблуждений человеческого ума и не стремится в ней каждая система (в том числе, значит, и Ваша) к нулю, — каждый момент, каждое учение должны иметь свою ценность, независимую от того, воспримут ли их потомки или забудут. Надо вспомнить Гегеля и понять, что всякая система относительна, но во всякой по-своему отражено абсолютное. Философия — знание об абсолютном и знание о нем относительного человеческого ума. Поэтому, говоря уже знакомыми нам терминами, она полна только в своей комплицитности, в эксплицитности же ее каждое учение является особою, не погибающей и, в некотором смысле, абсолютно-ценною мыслью Божества, хотя и неполно выраженною. Вскрывая историческое значение Бруно, остережемся его ошибки — недооценки индивидуального, грозящего снизойти до степени иллюзорного бытия.
Философия — знание об абсолютном. Именно потому она не может быть самообоснованным знанием. Ведь абсолютная истина есть уже и Бытие и Жизнь, Только-познавательно обосновать Абсолютное нельзя. Необходимо целостно, т.е. и познавательно и жизненно, приобщиться к Нему. Философия, чтобы оправдать себя, должна стать жизнью. До известной степени она уже и есть жизнь. Это возвращает нас к биографии и личности Бруно. В них разъясняется указанное выше в сжатой форме значение его системы.