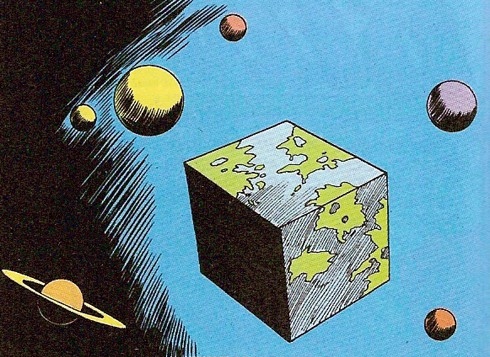…На исходе Второго тысячелетия вновь слышится эхо паде-ния Pax Romana и мученических родов человечества: тогда ещё замысла, выговариваемого безумными словами.
М. Я. ГефтерSomething in Gnosticism knocks at the door of our Being and of our twentieth-century Being in particular.
H. Jonas
В последние годы появилось немало работ, так или иначе затрагивающих проблему отношения гностицизма и русской религиозной философии ((См., например: Бонецкая Н. К. Русская софиология и антропософия // Вопросы философии, 1995, № 7. С. 79-97 (ср. особ. на с. 91 общее суждение о деятелях русского духовного «ренессанса» как гностиках — теоретиках или практиках); Козырев А. П. Смысл любви в философии Вл. Соловьёва и гностические параллели // там же, с. 59-78; Он же. Владимир Соловьёв и Анна Шмидт в чаянии «Третьего завета» // Россия и гнозис. М., 1996. С. 23-41.)). Едва ли оправданы категоричные суждения о последней как особой исторической форме гностицизма, однако (наряду с тем, что вопрос о сущности и исторических границах самого гностицизма по сей день не получил окончательного разрешения ((Ср., например: Yamauchi E. Pre-Christian Gnosticism. A Survey of the proposed evidences. Grand Rapids, 1973; Каменских А. А. Гностицизм в культурном контексте поздней античности // Религиоведение, 2002, № 3. С. 21-36.))) интерес, который проявляли к системам древнего гнозиса многие представители русской философии 2й пол. XIX — нач. XX в., безусловен ((Достаточно вспомнить красочный гностический мифологизм 2й и 3й частей соловьёвской «Софии», сочинение Л. Карсавина «София земная и горняя» — крайне интересную стилизацию под гностический трактат, миф о космогоническом падении в «Философии хозяйства» С. Булгакова и мн. др.)). Что же лежало в основе этого интереса?
Не входя во всестороннее обсуждение проблемы, мы предлагаем взглянуть лишь на одну из точек соприкосновения этих культурно-исторических феноменов. Речь идёт о весьма интересной концепции, которой более всего соответствует название «трагедии космогонической объективации».
Сама по себе концепция космогонической объективации встречается в истории фи-лософии нередко. Суть её в том, что абсолютное начало силою и на основании своей мысли (иногда также — чувства, переживания) порождает, как бы выносит из себя объективно-предметный универсум. Уходя корнями в мифологическую древность, эта концепция переживает философское оформление в эпоху поздней античности, проходит через всё средневековье, появляется подчас у мыслителей нового времени. В разных её вариантах речь может идти или о творении по воле абсолютного субъекта (ср. у П. Флоренского: «Бог мыслит вещами» ((Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. Т. 1. М., 1990. С. 326.))), или об эманативном порождении новых ступеней бытия, происходящем как бы «естественно», без участия чьей-либо воли. Именно этот вариант был безусловно преобладающим в эпоху поздней античности. Замечателен в этом отношении текст, который Плотин вкладывает в уста Природы, низшей части мировой Души:
«Порождаемое мною есть результат моего безмолвного созерцания, и продукт этого со-зерцания рождается от меня естественным образом… Моё созерцание порождает продукт созерцания, подобно тому, как геометры чертят фигуры, созерцая. Но я не черчу фигур, я созерцаю, и очертания тел реализуются, как если бы они выходили из меня» ((Эн. III, 8, 4,1. Приведённый текст можно рассматривать как особый, «космогонический», вариант широко распространённого в античности учения о творческой объективации: здесь слова Платона о душе, беременеющей от созерцания Блага и порождающей науки и искусства («Пир», 208d-209d, 212a), прилагаются к мировой Душе, которая в созерцании Ума безмолвно порождает прекрасный космос.)).
Важно заметить, что в основной массе эллинистических философских текстов, содержащих учение о космогонической объективации, последняя описывается именно как закономерный мировой процесс, в котором нет ни трагедии, ни какой бы то ни было персоналистической проблематики. Принципиально иную трактовку данной концепции мы встречаем в гностических системах II – III вв.
Трагедия космогонической объективации в гностицизме
В том или ином виде учение о космогонической объективации присутствует в большинстве гностических памятников. Среди них можно назвать «Апокриф Иоанна» ((См. «Апокриф Иоанна» 9.25 и далее.)), мандейскую «Гинзу» ((См. Ginza, fr.457, где Мана, «частица от Жизни великой» (мандейский аналог Софии), взывает: «Кто вверг меня в страданье миров, кто забросил меня в злую тьму? Как я долго терзаюсь, заточённая в мире, как долго я пребываю средь дел моих рук!» (цит. по: Jonas H. The Gnostic Religion. Boston, 1958. P. 56).)), трактат «Ипостаси архонтов» и мн. др., но наиболее ярко данное учение представлено в системах, связанных с именем Валентина. Прежде всего, это об-щеизвестное учение Птолемея в изложении Иринея Лионского («Против ересей», I.1,1 — 2,6) и, особенно, «Евангелие истины» ((О «Евангелии истины», к сожалению, мало известном у нас, см.: Puech H. Ch., Quispel G., van Unnik W. C. The Yung Codex. Ed. F. L. Cross; London, 1955; Evangelium Veritatis. Ed. M. Malinine, H. Ch. Puech, G. Quispel. Zurich, 1956; Schenke H. M. Die Herkunft des sogenannten Evangelium Veritatis. Berlin, 1958; Grant R. M. Gnosticism and Early Christianity. New-York, London, 1959. P. 128-142; Jonas H. The Gnostic Religion. Boston, 1958. Ch. 8; Menard J. E. L`Evangile de Verite. Leiden, 1972; Finnestad R. B. The Cosmogonic Fall in Evangelium Veritatis // Temenos, vol. 7. Helsinki, 1971. P. 38-49; Aland B. Gnosis und Christentum // The Rediscovery of Gnosticism. Vol. 1: The School of Valentinus. Leiden, 1980 (далее RG 1). P. 330-350; Wilson R. McL. Valentinianism and the Gospel of Truth // RG 1. P. 133-145; Schoedel W. R. Gnostic Monism and the Gospel of Truth // RG 1. P. 378-390; Каменских А. А. «Евангелие истины»: в поисках точной интерпретации // Религиоведение. 2003. № 4.)) (NH, I,3 и XII,2). На примере этого чрезвы-чайно интересного памятника раннехристианского гнозиса, автором которого является, возможно, сам Валентин, мы вкратце и рассмотрим гностическую трактовку учения о космогонической объективации.
В «Евангелии истины» эоны, которые мыслятся здесь как первозданное человече-ство (и которым у Птолемея соответствует София), изначально пребывают в боже-ственном Логосе (аналоге неоплатонического Νους’а) как его совокупное смысловое содержание. Однако стремление самостоятельно познать, т.е. качественно определить беспредельного Бога-Отца, превосходящего всякое помышление (17.9), приводит к тому, что эоны покидают определённые им уделы и устремляются в поиски Отца – поис-ки, неизбежно порождающие заблуждение (πλάνη).
Становясь самостоятельной демонической силой, заблуждение захватывает боже-ственные эманации в плен, создавая из их объективированной муки и ужаса ложное подобие истины – материальный мир ((Таким образом, в “Евангелии истины” πλάνη соответствует Демиургу или Йалтабаофу других гностических систем.)). Положение человека в этом мире определяется неведением, страхом, разделением, томлением и тоской по бытию в истине.
С откровением Христа-Логоса к людям возвращается знание своих собственных эк-зистенциальных глубин; с обретением себя (и одновременно — с освобождением от продуктов ложной объективации, составляющих материю этого мира) они обретают и друг друга (т.е. весь умный космос), и Бога. Происходит восстановление плеромы.
В целом, рассматривая учение о космогонической объективации в гностицизме, необходимо отметить следующее. Во-первых, при безусловной связи с античными фи-лософскими представлениями ((Укажем лишь на одну параллель: как в неоплатонизме каждая последующая эманация порождает новую в процессе умного созерцания предыдущей (Ум, наполняясь от созерцания Первоединого, порождает Мировую душу, та в созерцании Ума порождает космос), так и гностические эоны порождают новые ступени бытия, созерцая ступени более высокие.)), здесь мы встречаемся с выражением совершенно ино-го, отнюдь не античного опыта. Прежде всего, субъектом космогонической объективации оказывается здесь не обобщенно безличный жизненный принцип — Мировая душа, но идеальная личность (София, Мана, Эннойя) или, как в «Евангелии ис-тины», универсум идеальных личностей — совокупное духовное человечество (таким образом, заметим, платонический мир идей превращается в небесную церковь).
Далее, весь теокосмический процесс чётко делится на два этапа, разделённых кос-могоническим падением — трагической случайностью, инициирующей мировой про-цесс. Этим этапам соответствуют два различных типа выражения. Если в изначальном, должном состоянии общения с «Отцом Всего и верными братьями» («Евангелие истины», 43.4-5), познание истины тождественно бытию истиной и её вы-ражению, т.е. дальнейшему раскрытию и прославлению в новой духовной сущности, то после падения, в космосе (который характеризуется как κενόμα и αγνόια, т.е. «пустота» и «неведение»), каждое отдельное выражение отчуждается от своего субъекта; последний распадается во множестве взаимообособленных элементов, которые и становятся материей нашего мира. Так вечная ‘ύλη античных философов сменяется объективированными страстями падших божественных эонов — страхом, отчаянием, мукой, — которые с необходимостью исчезают при познании Бога. Отсюда своеобраз-ный «историзм» и напряжённый эсхатологизм гностиков.
Таким образом, космогоническая объективация в гностицизме — это не закономерный мировой процесс, как в эллинистической философии, но трагедия абсолютной личности.
Космогоническая объективация в русской религиозной философии
Теперь рассмотрим учение о космогонической объективации в трактовке двух ярких представителей русского духовного ренессанса — В. С. Соловьёва и Н. А. Бердяева.
В. С. Соловьёв (в период рукописи «София» и «Чтений о Богочеловечестве»).
В трудах Соловьёва данная концепция наиболее полно раскрывается в «Чтениях о Богочеловечестве». Здесь в чтении VII и VIII мы находим учение о Христе как предвеч-ном божественном, точнее, богочеловеческом организме, в котором Логос выступает как действующее, единящее начало, а София — как выраженная, осуществлённая идея Бога, «тело Божие» или «материя Божества, проникнутая началом божественного единства». София трактуется далее как «идеальный или нормальный человек», вечный восприемник
божественного действия, «идеальное, совершенное человечество, вечно заключающееся в цельном божественном существе, или Христе». В этом идеальном богочеловечестве «каждый из нас, каждое человеческое существо, существенно и действительно коренится и участвует» ((Цитируем по изданию: Соловьёв В. С. Сочинения. М., 1994.)).
(Отметим в скобках ряд наиболее близких параллелей и возможных источников. Прежде всего, это круг новозаветных текстов: учение апостола Павла о Церкви как еди-ном теле Христовом; Откровение Иоанна Богослова, описывающее явление горнего Иерусалима как спасённого человечества, т.е. небесной церкви, единой со Христом. Ср. также учение Августина о небесном Иерусалиме как вечном «доме Божием», тварной Софии, Sapientia creata, в которой укоренён «первый начаток» человеческого духа ((См.: Августин. Цветы благодатной жизни. СПб, 1997. С. 44.)). Но особенно поразительна концептуальная близость с «Евангелием истины», где так же, как и у Соловьёва, развивается учение о идеальном совокупном человечестве, вечно пребы-вающем в единстве с божественным Логосом ((Отметим некоторое различие: у Соловьёва идеальное человечество в Софии является совокупным восприемником и выражением божественных идей, заключённых в Логосе, в то время как в «Евангелии истины» эоны, как совокупное выражение имени Божия, пребывают в Логосе в качестве идей, вместо идей. Подробнее см.: Каменских А. А. Ук. ст.))).
Собственно учение о космогонической объективации излагается далее, в чтениях IX и X. София имеет собственную волю, потенциально отличную от воли Божьей. В стремлении к самостоятельному бытию, к выражению своего собственного содержания, она распадается во множество взаимообособленных элементов вещественного мира, поражённых жаждой своего, т.е. злом и страданием. Соловьёв подчёркивает, что мир и человечество в их нынешнем состоянии суть лишь «другое, недолжное взаимоотношение (курсив Соловьёва) тех же самых элементов, которые образуют и бытие мира божествен-ного». Внешнее, вещественное бытие есть лишь результат субъективных состояний этих элементов — состояний зла и страдания.
Мировой и исторический процесс есть процесс восстановления нарушенного един-ства богочеловеческого организма — Христа (т.е. Логоса) и Софии.
В значительной мере, указанные части «Чтений о Богочеловечестве» несут на себе заметный отпечаток валентинианского гнозиса, представляют собой осмысление и своеобразное философское обоснование соответствующих гностических концепций.
Н. А. Бердяев
У Н. Бердяева мы встречаем наиболее острое в русской культуре переживание про-блемы объективации, и в этом — наибольшая близость бердяевского мироощущения к мироощущению древних гностиков. Здесь следует говорить именно о близости мироощущения: в отличие от Соловьёва, Н. Бердяев избегает обращения к мифологии, в т. ч. космогонической; точнее говоря, философ обращается к тем же экзистенциальным осно-ваниям, на которых некогда возникла гностическая мифология. Речь идёт о чувстве своей иноприродности этому миру объективации, «царству Кесаря», о своеобразном метафизическом радикализме. Согласно Бердяеву, подлинно экзистирует лишь личность, или че-ловеческий дух, — свободный, творческий, одинокий, постоянно противящийся силам отчуждения (гностик сказал бы, усилиям архонтов мира сего), «вкоренённый во внутреннем плане существования, то есть в мире духовном, в мире свободы» ((«Опыт эсхатологической метафизики». Часть I, гл. 2; ср. аналогичную концепцию в вышеприведённом «Евангелии истины».)). Бердяев постоян-но подчёркивает, что «мир нуменов … есть мир творческих существ, а не мир идей» ((Бердяев Н. А. Царство Духа и царство Кесаря. М., 1995. С. 197. )), что вызывает в памяти персоналистическую интерпретацию гностиками платоновского идеализма («Евангелие истины», «Зостриан» и многие другие).
В процессе объективации порождается социальный и природный космос — «часть личности, её социальная и природная сторона» («Опыт эсхатологической метафизики», I, 2; заметим, что и Бердяев, таким образом, говорит не только об индивидуальных лично-стях, но и об универсальной общечеловеческой личности, аналоге валентинианской и со-ловьёвской Софии; таким образом, сопоставление с софиологией позднеантичного гностицизма позволяет обнаружить в философии Н. Бердяева — при сознательном от-талкивании от построений современной ему русской софиологии, — скрытую напряжённую софийную проблематику). Как и автор «Евангелия истины», Николай Александрович отказывает вещественному, объектному миру в подлинной реальности; в действительности существуют лишь «мир свободный божественный и свободный человеческий». В утверждении о том, что весь материальный мир есть «знаки событий, происходящих в духовном мире, событий раздвоения, отчуждения, выброшенности в состояние, при котором происходит причинная определяемость извне», близость бердяевского мироощущения к раннехристианскому валентинианскому гнозису становится поразительной.
Нынешнее состояние, при котором любые обнаружения творческих глубин личности теряют свою духовную самостоятельность, приобретают непроницаемость вещественных форм этого мира, не есть изначальное и должное, но является лишь проявлением её падшести (ср. суждение о падшести как важной категории познания); телесный мир может и должен выйти из «состояния объектности» и обратиться к собственным субъектным глубинам, т. е. войти в духовное состояние, в котором человек находится в общении со всем духовным универсумом.
В целом, терминологическая и концептуальная близость систем взглядов позволяет утверждать, что если бы раннехристианский гностик оказался в первой половине XX столетия, он мог бы говорить на языке бердяевской философии.
Итак, что же позволяет нам говорить о единой концепции по отношению к религиоз-но-философским системам, разделённым восемнадцатью веками?
1. Персонализм:
а) Учение о субъекте космогонической объективации как абсолютной личности — одновременно индивидуальной и универсальной (в пример можно привести давно установленное соответствие между Софией валентинианского космогонического мифа и эонами — совокупным духовным человечеством, — в «Евангелии истины»; точное соот-ветствие этому мы видели и у В. Соловьёва);
б) вследствие тех же чрезвычайно сильных персоналистических интуиций происходит персоналистическая интерпретация учения о идеях: платонический κόσμος νοήτος превращается в небесную церковь.
2. И в гностических системах, и у названных русских философов причина космогонической объективации усматривается в метафизическом грехопадении абсолютной личности, вызванном её своеволием, ‘ύβρις. Причём если для Плотина «‘ύβρις» Ума, исходящего из Первоединого, «‘ύβρις» Души, отделяющейся от Ума, на деле не более чем аллегория (ведь Ум и Душа вполне безличны, космогонический процесс в дейстительности — необходим и закономерен), то в нашем случае, когда субъектом космогонической объективации является настоящая личность, своеволие, ‘ύβρις, означает для неё подлинное грехопадение, ввергающее и её, и порождаемый ею мир в состояние падшести. Не случайно центральной фигурой валентинианского мифа является именно София — страждущая, стремящаяся вырваться из мира и в своих невольно объективируемых страстях непрерывно его порождающая, рвущаяся к горней святости и одержимая своевольными помыслами (по сути, абсолютизация, проекция на вселенский уровень души самого гностика).
3. Смысл идеи объективации: объективация, как таковая, есть необходимый момент процесса выражения: всегда выраженный образ вещи есть нечто иное, «внешнее», по отношению к вещи-в-себе. Но пока сохраняется тождество (пусть и не абсолютное) между вещью и её явленным образом, мы можем говорить о действительном выражении. Если для эллинистического философа нет непреодолимой преграды между эйдосом и его вы-ражением в чувственном мире, то для гностика такое подлинное, действительное выражение возможно лишь в плероме. В космосе же оно всегда искажённо, ущербно: единая вещь здесь разрывается и пленяется множеством своих частичных проявлений, не согласных друг с другом и не составляющих единого образа вещи; каждое из таких проявлений пытается выступать как самодовлеющее. Таким образом, для гностика выражение в мире, — в силу падшести, составляющей фундаментальную основу последнего, —
ограничено одной лишь объективацией, это только отчуждение и самораспад. За категорией объективации здесь стоит более сильная категория отчуждения.
4. Наиболее острое, трагическое переживание объективации как самоотчуждения наблюдаем в такие исторические периоды, когда весь ценностно-смысловой универсум прежней культуры переживает острейший кризис; человек остаётся один — наедине со своей душою, окружённый чужим миром. Отсюда гностическая «заброшенность в чужое», «поиск утраченной родины и родного». Именно такими историческими периодами являются поздняя античность и XX век.
Россия и Гнозис. Материалы конференции (Москва, ВГБИЛ, 21-22 апреля 2003 г.). М.: Рудомино, 2004. С. 122 — 129